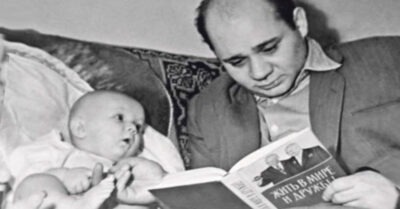Он вернулся в родное село через пятнадцать лет, чтобы увидеть мать, — и опоздал ровно на месяц. Но в её доме его никто не ждал, а на пороге стояла женщина, которую он бросил, и парень, который вырос без него

Сквозь мутное, в известковых разводах стекло уходящего вдаль автобуса, Андрей Ильич Ветлугин смотрел на пробуждающийся мир. Машина, громыхая на стыках гравийки, пробивалась сквозь майское марево, и каждый толчок отдавался ноющей болью в пояснице, напоминая о том, что молодость осталась где-то там, в пахнущих мазутом общежитиях и прокуренных бытовках дальних строек.
Поля, ровные, как скатерть, убегали к горизонту, где синеватая кромка леса плавилась в нагретом воздухе. Пшеница уже выбрасывала первые робкие колосья, и ветер, врывающийся в разбитое окно, нёс с собой терпкий запах разнотравья и тёплой земли, такой забытый и одновременно родной, что у Андрея Ильича перехватывало горло.
— И как они тут дышат этой пылью? — пробормотал он себе под нос, стряхивая серый налет с рукава добротного, но уже изрядно помятого пиджака.
Рядом дремала полная женщина с корзиной, из которой торчали гусиные лапы. Напротив, парень в линялой майке читал газету, шевеля губами. Андрей Ильич чувствовал себя чужим среди этих людей. За пятнадцать лет, что он мотался по стране — от Братска до Тюмени, — он отвык от этой медлительной, тягучей жизни. Он привык к другому ритму: к звону рельсов, к грохоту бетономешалок, к коротким перекурам в обед и длинным вечерам с коллегами в общежитии.
Зачем он едет? Этот вопрос грыз его всю дорогу, от самого вокзала. Когда он покупал билет, им двигало что-то неясное, похожее на смутную тревогу или запоздалое раскаяние. Мать… Он писал ей редко, короткими казёнными фразами: «Жив, здоров, деньги высылаю». Она не отвечала. Гордая была, Пелагея Васильевна. Из тех сибирских женщин, что коня на скаку остановят, да только век у них теперь другой — не богатырский, а долгий и одинокий.
— Станция Ключи! — крикнул водитель, высунувшись в окно.
Автобус дёрнулся и замер, взметнув облако пыли. Женщина с гусями засуетилась, парень сложил газету. Андрей Ильич поправил галстук, который душил его, словно петля, и взял с полки потёртый фибровый чемодан с медными уголками. Тяжёлый. Не столько вещами, сколько памятью.
Сойдя на обочину, он вдохнул полной грудью. Воздух здесь был густой, как кисель, настоянный на полыни и мяте. Где-то далеко за домами, за зелёными крышами, угадывалась река. Та самая, где они в детстве ловили пескарей и где он впервые поцеловал девчонку с соседней улицы, Верку Субботину.
Остановка была пуста. Только на скамейке, вытертой до блеска множеством сидений, сидел дед в ватнике и курил «козью ножку», щурясь на солнце.
— Дед, а где тут у вас сельсовет? — спросил Андрей Ильич, стараясь, чтобы голос звучал твёрдо.
Дед поднял на него выцветшие, но цепкие глаза, долго рассматривал, будто вспоминая, потом сплюнул сквозь зубы.
— А ты чей будешь? — вопросом на вопрос ответил он.
— Ветлугин я. Андрей Ильич. Пелагеи сын.
Дед крякнул, затушил самокрутку о подошву сапога и неторопливо поднялся.
— Вон оно что… Пелагеин, значит. — Он покачал головой. — Опоздал ты, мил-человек.
Сердце Андрея Ильича пропустило удар. Опоздал? Куда? На поезд? Нет, он чувствовал, что речь о чём-то другом, более страшном.
— Мать, что ли… — начал он, не в силах договорить.
— Мать, — подтвердил дед. — Месяц назад схоронили. Царствие ей небесное. Хорошая баба была, справедливая. Ты уж прости, что без тебя проводили. Да где ж тебя, сокола, искать-то?
Андрей Ильич медленно опустился на скамейку. Чемодан выскользнул из рук и глухо стукнулся о землю. Мир на секунду потерял краски — яркое майское солнце померкло, сменившись серой, беззвучной пустотой. Он не думал о матери каждый день, но где-то в глубине души она всегда была той ниточкой, что связывала его с этим местом. С домом. Теперь ниточка оборвалась.
— Ты это… не убивайся, — дед положил шершавую ладонь ему на плечо. — Она мужиком жила. Не болела, не жаловалась. В огороде копала, помидоры сажала. А утром не проснулась. Тихая смерть, хорошая.
Андрей Ильич сидел, сцепив руки в замок так, что побелели костяшки. В голове билась одна мысль: «Зачем я ехал? Зачем тянул?» Ведь мог же приехать год назад, два, пять… Но всегда находились дела, объекты, срочные заказы.
— А дом? — глухо спросил он. — Дом цел?
— Дом, он как человек, — философски заметил дед. — Без хозяина ветшает. Но Марья твоя приглядывает. Жена, то есть. Анна-то.
Андрей Ильич вздрогнул. Анна… Он почти забыл это имя. Та самая девушка, на которой его женили почти силком, когда ему было двадцать, а ей девятнадцать. Сутулая, тихая, с длинными сильными руками доярки. Он прожил с ней четыре года, родился сын, а потом… Потом завербовался на стройку и уехал. Не сбежал даже — ушёл, как уходят в море, оставив на берегу всё ненужное. И не писал.
— Она здесь? Не уехала? — удивился он. — Замуж, поди, вышла?
— Куда там, — дед усмехнулся. — Не из таких Анна твоя. В доме твоём порядок наводит, сад подняла, теплицу поставила. И Николая растит. Сына твоего. Пятнадцать годков ему уж.
У Андрея Ильича пересохло во рту. Сын… Колька… Он помнил его трёхлетним карапузом с вечно мокрым носом, который цеплялся за материнскую юбку. А теперь — пятнадцать лет. Взрослый почти.
— И как же она… одна?
— А ты иди, сам посмотри, — дед махнул рукой в сторону села. — Вон, по главной улице до конца, потом налево, к леску. Не заблудишься.
Андрей Ильич поднял чемодан и медленно побрёл по пыльной дороге. Ноги были ватными. Мысли путались: мать, Анна, сын, который его не знает, дом, который без него жил своей жизнью. Он чувствовал себя человеком, который вернулся с того света и теперь не знает, как вписаться в этот, живой.
Село изменилось. Вместо покосившихся изгородей — ровные заборы из профнастила, вместо деревянных тротуаров — асфальт. У новых кирпичных домов стояли иномарки. Лишь кое-где виднелись старые пятистенки с резными наличниками, напоминающие о прошлом. Возле магазина толпились парни на крутых великах, громко смеялись, глядя в телефоны.
Чужие. Всё чужое.
Он дошёл до поворота, обогнул перелесок, где в детве собирал землянику, и остановился как вкопанный.
Дом матери стоял на месте. Но какой это был дом! Не та почерневшая изба с покосившимся крыльцом, которую он помнил, а аккуратная, обшитая свежим блок-хаусом усадьба с металлической крышей цвета спелой вишни. Новые окна, резные ставни, палисадник, утопающий в пионах и флоксах. Забор — высокий, добротный, из профилированного листа, с калиткой, украшенной коваными завитушками.
— Мать честная… — выдохнул Андрей Ильич. — Неужто Анька?
Он постоял, собираясь с духом, потом толкнул калитку. Она открылась легко, без скрипа. Двор был выметен до последней соринки. Слева — летняя кухня с мангалом, справа — аккуратный дровяник, полный напиленных чурбаков. Вдоль забора цвели розы, такие пышные и яркие, каких он в жизни не видал.
Из-за угла дома вышла женщина. Она несла два полных ведра воды на коромысле, и шла так легко и плавно, будто не весла на плечах, а пушинки. Высокая, статная, в простом ситцевом платье в горошек, с тугим узлом русых волос на затылке.
Она поставила вёдра, выпрямилась и посмотрела на него. Взгляд её серых глаз был спокоен и чист, как вода в роднике. Ни удивления, ни радости, ни злости. Просто смотрела, узнавая и не узнавая одновременно.
— Здравствуй, Андрей, — сказала она тихо.
Голос у неё оказался низким, грудным, певучим. Совсем не таким, как раньше. Раньше она говорила торопливо и немного заискивающе, будто боялась, что её перебьют. Теперь в голосе звучала уверенная, спокойная сила.
— Анна… — он хотел шагнуть к ней, но ноги будто приросли к земле. — Я… я вернулся.
— Вижу, — она ополоснула руки под рукомойником, висящим на берёзе, вытерла их о фартук. — Проходи в дом. Чай будешь?
Она говорила так, будто он отлучался на час в магазин, а не на пятнадцать лет.
В доме пахло свежеиспечённым хлебом, мятой и ещё чем-то неуловимо родным, уютным. Всё было по-новому: кухонный гарнитур, газовая плита, холодильник, даже посудомоечная машина. На стенах — вышитые картины, на подоконниках — цветы в глиняных горшках. Чистота, порядок, тепло.
Анна поставила чайник, достала из хлебницы каравай с хрустящей корочкой, нарезала тонкими ломтями сало, поставила на стол баночку с мёдом и глиняную миску с земляникой, присыпанной сахаром.
— Садись, — кивнула она на табурет.
Он сел, чувствуя себя неловко в этом доме, где каждая вещь дышала её заботой и трудом. Чемодан свой он так и оставил у порога.
— Как ты… одна? — наконец выдавил он, грея озябшие руки о кружку.
— Да не одна, — она пожала плечами. — Николай со мной. Помогает. Корову держим, кур, пчёл завели. Сын у тебя золотые руки. Всё сам, без отца… — она запнулась, но тут же продолжила ровно: — Всё сам научился делать.
У Андрея Ильича защипало в носу. Он опустил голову, пряча глаза.
— Я денег привёз, — глухо сказал он, достав из внутреннего кармана пиджака толстую пачку купюр, перетянутую аптечной резинкой. — На дом. На хозяйство. Ты прости, что так долго… Я дурак был.
Анна мельком взглянула на деньги, но не притронулась к ним.
— Убери. Не нужно мне твоих денег, Андрей. Мы с Колькой сами справляемся. На жизнь хватает.
— Как не нужно? — он повысил голос. — Я отец! Я должен!
— Должен? — она подняла на него глаза. В них не было упрёка. Только усталая мудрость. — А ничего ты мне не должен. И ему тоже. Мы выросли без тебя. И привыкли.
— Анна, я же… я вернуться хочу. К вам. Я ведь муж тебе.
Она помолчала, глядя в окно на цветущий сад.
— А был ли ты мне мужем, Андрей? — тихо спросила она. — Четыре года вместе, и всё как в тумане. Я тебя и не помню почти. Помню, что было тяжело. Помню слёзы. Помню, как утром проснулась, а тебя нет. И вещей твоих нет. Только сын в люльке спит. И молоко у меня пропало от переживаний. Двое суток ревела, Колька криком исходил, пока соседка козу не привела. А ты в это время где-то ехал… К новому счастью.
— Анна…
— Я не виню, — перебила она. — Просто рассказываю, как было. Я тогда поняла: надеяться можно только на себя. И на Бога. Вот и живу.
В дверь громко постучали, и в сени влетел вихрь — высокий худощавый парень с вихром светлых волос и цепкими, умными глазами. В руках он держал охапку свежескошенной травы для кроликов.
— Мам, я травы натаскал, — начал он и вдруг замер, увидев за столом чужого мужчину в городском костюме.
Парень смотрел на Андрея Ильича, и в этом взгляде было всё: любопытство, настороженность, мгновенная оценка — свой или чужой. А у Андрея Ильича внутри всё оборвалось. Перед ним стоял он сам — в молодости. Те же серые глаза, тот же разрез, тот же упрямый подбородок. Только веснушки, рассыпанные по носу, были, наверное, материнскими.
— Коль, это… — Анна запнулась, не зная, как представить.
— Я твой отец, — прямо сказал Андрей Ильич. — Здравствуй, сын.
Николай медленно опустил траву на пол. Лицо его стало непроницаемым, будто маску надел.
— Ага, — только и сказал он. — Понял.
Повисла тяжёлая тишина. Парень перевёл взгляд на мать, ища подсказки, как себя вести.
— Иди умойся с дороги, Коля, — мягко сказала Анна. — Обедать будем.
Николай молча вышел, и Андрей Ильич услышал, как заскрипели половицы в сенях, как зашумела вода в умывальнике.
— Не ждал он меня, — констатировал Ветлугин.
— А ты себя на его место поставь, — Анна налила ему ещё чаю. — Для него отца никогда не было. Отца заменил дед Кузьма, сосед. Он и рыбачить научил, и по дереву работать. К нему Колька за советом ходит. А тут — ты. Чужой человек.
— Я не чужой! — взорвался Андрей Ильич. — Я кровь ему!
— Кровь — это не главное, — спокойно возразила Анна. — Главное — это жизнь. Кто рядом был в трудную минуту, кто научил гвоздь забить, кто похвалил за пятерку. Этого всего у тебя нет.
— Я наверстаю! — он стукнул кулаком по столу так, что подпрыгнули кружки. — Я остаюсь здесь. В доме матери. Буду рядом. Помогать. Докажу, что могу быть отцом.
Анна посмотрела на него долгим, изучающим взглядом.
— Дело твоё, — наконец сказала она. — Дом Пелагеи Васильевны — твой по праву. Живи. Только… не жди, что всё сразу изменится. У людей своя жизнь, своя память.
Часть вторая. Чужой среди своих
Дом матери встретил Андрея Ильича запахом сырости и запустения. Внутри всё было не так, как снаружи. Анна поддерживала порядок: стены выбелены, полы крашены, на окнах тюль, в красном углу иконы. Но чувствовалось, что здесь давно не живут по-настоящему. Холод, идущий от пола, пустота шкафов, мертвая тишина, в которой даже часы тикают как-то виновато.
Он постелил постель, достал из чемодана смену белья, но уснуть не мог. Лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок, где плясали тени от проезжающих редких машин. В голове крутился один и тот же вопрос: что дальше?
Утром он встал рано, растопил печь — навык, не забытый за годы скитаний. Сходил в местный магазин, купил продуктов. Продавщица, полная женщина с любопытными глазами, долго его рассматривала, но ничего не спросила. Видно, слухи уже разнеслись.
Днём он пошёл на кладбище. Материн холмик был ухожен: свежая оградка, гранитный памятник с фотографией, живые цветы в вазе. Рядом — могила отца, которого он почти не помнил. Долго стоял, сняв шляпу, шевелил губами, пытаясь молиться, но слова не шли. Только ком в горле и пустота в душе.
— Прости, мама, — прошептал он наконец. — Не успел.
На обратном пути встретил Кузьму. Старик сидел на лавочке возле своего дома, грел на солнце старые кости.
— Ну чё, блудный сын, — беззлобно усмехнулся он. — Огляделся?
— Огляделся, — Андрей Ильич присел рядом. — Дед, скажи… Как она тут жила? Анна?
Кузьма долго молчал, сворачивая цигарку.
— Жила, как все бабы в войну живут, — наконец сказал он. — Без мужика. Только войны нет, а она — одна. Первый год ревела, это все видели. А потом взяла себя в руки. Сначала в совхозе работала за троих, потом кур развела, потом корову купила. На строителей в городе шить стала — у неё руки золотые, всё умеет. Дом твой подняла, участок облагородила. Сын у неё растёт — загляденье. И гордая стала. Не прогибается.
— А мужики? — ревниво спросил Андрей Ильич. — Не было никого?
— Были, — спокойно ответил Кузьма. — Ты не думай, баба она видная, характерная. Ухажёры года два назад в очередь стояли. Только она никого не пустила. Сказала: «Мне мужик не нужен. У меня сын есть». И всё. Так и живёт. Свободная.
Андрей Ильич задумался. Выходит, она не просто выжила — она победила. Без него.
Дни потянулись один за другим, похожие, как близнецы. Он пытался найти общий язык с Николаем, но парень упорно держал дистанцию. Отвечал односложно, в глаза не смотрел, при любой возможности исчезал из дома.
— Коль, пойдём на рыбалку? — предложил как-то Андрей Ильич.
— Некогда, — буркнул парень. — Дед Кузьма обещал показать, как сети ставить.
— Я тоже могу показать.
— Дед лучше знает, — отрезал Николай и ушёл, хлопнув калиткой.
Анна на это ничего не говорила. Она вообще держалась ровно, приветливо, но холодновато. Как с дальним родственником, который приехал погостить. Утром стучала в окно, звала завтракать, вечером спрашивала, не нужно ли чего. Но стоило ему приблизиться, попытаться заговорить о прошлом, о чувствах, она мягко, но непреклонно уходила от разговора.
— Не вороши, Андрей, — говорила она. — Что было — то сплыло.
Он понял, что прощения не будет. Не потому, что она злая. А потому, что ей это просто не нужно. Она пережила боль, выплакала её, похоронила и построила на этом пепелище новую жизнь. А он в этой новой жизни — лишний.
Однажды вечером, когда он сидел на крыльце своего дома и курил, глядя на закат, калитка скрипнула. Вошёл Николай. Подошёл, остановился в двух шагах.
— Чего хотел? — спросил Андрей Ильич, стараясь, чтобы голос звучал ровно.
— Спросить, — парень мялся, теребя в руках кепку. — Зачем ты приехал?
— Домой.
— Домой? — Николай усмехнулся. — А где твой дом? Ты ж по всей стране мотался. И мать мою бросил. И меня. Зачем сейчас-то?
Андрей Ильич затушил сигарету, долго молчал.
— Постарел, видно, — наконец сказал он. — Понял, что кроме этого места у меня ничего нет. Корни здесь. А без корней человек — перекати-поле. Вроде живёт, а вроде и нет.
— А мать? — Николай поднял глаза. — Она тебе кто?
— Жена.
— Бывшая, — поправил парень. — Ты ей никто. И мне тоже. У нас своя семья. Без тебя.
Сказал и ушёл в темноту, оставив Андрея Ильича одного с этой горькой правдой.
В ту ночь он не спал. Ходил по дому, трогал вещи, оставшиеся от матери — старые фотографии в альбоме, вышитые рушники, иконы в углу. Плакал, уткнувшись лицом в подушку, чтобы никто не слышал.
А утром принял решение.
Часть третья. Прощание и встреча
Сборы были недолгими. Всё его имущество помещалось в тот же старый чемодан. Перед уходом он ещё раз обошёл дом, погладил стены, словно прощаясь с памятью матери. Потом достал все деньги, что у него были, оставил половину под иконой, записку приложил: «На хозяйство. Простите, если сможете». Вторую половину сунул в карман — на дорогу.
Шёл к автобусной остановке той же дорогой, что пришёл неделю назад. Утро только занималось, роса серебрилась на траве, лес за спиной дышал свежестью. Он шёл и чувствовал, как с каждым шагом тяжесть на душе становится чуть легче. Не оттого, что уезжал от проблем, а оттого, что принял правду. Принял и смирился.
На повороте, у старого дуба, где в детстве была их с ребятами штаб-квартира, он остановился. Отсюда открывался вид на всё село: на дома, утопающие в зелени, на серебристую ленту реки, на поля за ней. Красиво. До боли красиво.
— Дядя Андрей! — раздался тонкий голосок.
Он обернулся. По тропинке бежала маленькая девочка, кудрявая, как ангел с картинки, с огромным бантом в светлых волосах. За ней, стараясь не отставать, шагал Николай.
— Ты уезжаешь? — девочка подбежала, запыхавшись, и уставилась на чемодан.
— Уезжаю, малышка, — улыбнулся он. — А ты кто такая?
— Я Нюра! Я с Николаем дружу! А ты его папа?
Андрей Ильич посмотрел на сына. Тот стоял, опустив голову, и носком кеды чертил на пыльной дороге какие-то узоры.
— Выходит, что папа, — тихо сказал он.
— А чего уезжаешь? — не унималась Нюра. — Плохо у нас?
— Хорошо у вас, — он присел на корточки, чтобы быть с ней на одном уровне. — Очень хорошо. Только не место красит человека, а человек — место. А я тут места себе не нашёл. Понимаешь?
Нюра задумалась, нахмурив кукольный лобик, потом кивнула:
— Понимаю. Как когда куклу новую купишь, а она не нравится. Всё равно со старой играешь.
Андрей Ильич рассмеялся — впервые за эту неделю.
— Точно, малышка. Точно.
Николай поднял голову. Взгляд его был уже не колючим, а задумчивым, почти взрослым.
— Мать велела передать, — глухо сказал он. — Чтоб ты не пропадал. Писал. Хоть изредка.
— Передай, что буду, — Андрей Ильич встал. — И ещё… Береги её, Коль. Она у тебя — золото.
— Сам знаю, — буркнул парень, но голос дрогнул.
Где-то за лесом загудел автобус. Пора.
— Ну, будьте, — Андрей Ильич протянул руку сыну. — Может, свидимся ещё.
Николай помедлил секунду, потом пожал руку. Крепко, по-мужски.
— Дядь Андрей! — крикнула Нюра, когда он уже сделал несколько шагов. — А ты когда приедешь, гостинцев привези!
— Каких?
— Шоколадку! — она захлопала в ладоши. — С орешками!
— Обязательно, — пообещал он и пошёл дальше, чувствуя, как на глаза наворачиваются слёзы.
Автобус подъехал, обдав пылью. Андрей Ильич забросил чемодан в багажное отделение и уже собрался подняться на подножку, когда услышал:
— Андрей! Постой!
Он обернулся. По дороге, быстро перебирая ногами, бежала Анна. Растрёпанная, запыхавшаяся, в том же ситцевом платье, но без фартука. В руках она держала узелок.
— Чуть не опоздала, — выдохнула она, останавливаясь рядом. — Держи. Пирожки с капустой. Ты же любил.
Он взял узелок, чувствуя, как тепло от её рук передаётся через ткань.
— Анна… — начал он.
— Ничего не говори, — перебила она. — Я не за тем пришла. Просто… не поминай лихом. И мать твоя, Пелагея Васильевна, хорошая была. Мы с ней дружили. Она тебя ждала. Всё время ждала. До последнего дня.
— А ты? — вырвалось у него. — Ты ждала?
Анна посмотрела ему в глаза. В них было столько всего — и боль прошлых лет, и гордость, и усталость, и, кажется, чуть-чуть той самой девчонки, которая когда-то полюбила его, долговязого парня с косой на плече.
— Я тебя похоронила, Андрей, — тихо сказала она. — Давно. Ещё в ту зиму, когда молоко пропало. Прощай.
Она развернулась и быстро пошла обратно, не оглядываясь. Только ветер трепал подол её платья и светлые волосы, выбившиеся из узла.
Андрей Ильич смотрел ей вслед, пока автобус не тронулся, пока село не скрылось за поворотом, пока лес не сменился полями, а поля — перелесками. Он сидел у окна, прижимая к груди узелок с пирожками, и думал о том, как странно устроена жизнь. Как можно потерять всё и обрести снова, но уже совсем другим. Как можно вернуться домой и понять, что дома больше нет. Или есть, но в другом месте.
В кармане пиджака, рядом с билетом, лежала фотография, которую он нашёл в материнском альбоме. Маленький Колька, лет пяти, сидит на завалинке с котёнком в руках и смеётся, щурясь на солнце. Снимок сделан за два года до того, как Анна перестала ждать.
Эпилог. Три года спустя
Андрей Ильич Ветлугин стоял на перроне вокзала в областном центре и ждал поезда. Рядом лежал всё тот же фибровый чемодан, потёртый ещё больше, но надёжный, как старый друг. За плечами была очередная вахта, очередной город, очередная стройка. Только теперь он знал, куда возвращается.
Не домой. На родину.
В кармане пиджака, помимо билета, лежало письмо, полученное неделю назад. Конверт был надписан корявым, но старательным почерком: «Ветлугину А.И.». Внутри — короткое послание:
«Здравствуй, батя. Мамка говорит, приезжай на Покров. Нюра замуж выходит, гулять будем. Ты ей шоколадку обещал, она помнит. Ждём. Николай».
Он перечитал письмо уже в десятый раз, и каждый раз губы сами расплывались в улыбке. Батя. Впервые за три года. Впервые с тех пор, как он уехал тогда, несолоно хлебавши.
Он не пропадал. Писал. Сначала открытки к праздникам, потом письма подлиннее — Николаю, об учёбе, о работе, о жизни. Отвечали редко, но исправно. Анна присылала короткие записки: «Живы-здоровы, у Коли пятерка по физике, корова отелилась». Сухо, по делу. Но он знал — это мостик. Тонкий, шаткий, но мостик.
А год назад случилось то, чего он не ждал. В дверь его вагончика на лесоповале постучали. На пороге стоял Николай — возмужавший, плечистый, с твёрдым взглядом.
— Здорово, батя, — сказал он тогда. — Дай закурить.
Они просидели всю ночь, проговорили. Оказалось, парень после армии решил поступать в строительный техникум. Советоваться приехал. И просто так — увидеть.
— Мать не против? — спросил тогда Андрей Ильич.
— Мать сказала: твой отец, тебе решать, — усмехнулся Николай. — Она у меня мудрая.
С тех пор виделись ещё несколько раз. Переписка стала теплее. А теперь вот — свадьба.
Поезд подошёл ровно, без опоздания. Андрей Ильич занял своё место у окна и всю дорогу смотрел на проплывающие мимо поля, перелески, деревни. Осень в этом году стояла на диво тёплая, золотая. Берёзы горели жёлтым огнём, клены роняли багряные листья на ещё зелёную траву.
На станции Ключи его никто не встречал. Он и не ждал. Шёл пешком, как три года назад, нёс чемодан и сумку с гостинцами. Для Нюры — коробку конфет и плюшевого медведя (она выросла, конечно, но пусть помнит), для Кузьмы — табак хороший, для Анны… Для Анны он вёз просто себя. Другого подарка у него не было.
Село встретило его запахом дыма, прелых листьев и спелых яблок. Кое-где уже топили печи, и сизые столбы дыма поднимались к бледно-голубому небу. У дома Анны — теперь уже не материнского, а их общего, родового, — было шумно и людно. Столы во дворе, музыка из динамиков, смех.
Николай увидел его первым. Метнулся навстречу, обнял крепко, по-медвежьи.
— Батя! А мы заждались! Думали, не успеешь.
— Как не успеть на такое дело, — Андрей Ильич хлопнул сына по спине. — Где невеста?
Нюра и вправду выросла. Из кудрявой малышки превратилась в красавицу с длинной русой косой и глазами, сияющими счастьем. Жених — местный парень, тракторист, — стоял рядом, красный от смущения и внимания.
— Дядь Андрей! — Нюра подбежала, чмокнула в щёку. — А конфеты привёз?
— А как же, — он протянул ей подарки. — Держи. И это… будь счастлива, дочка.
Сказал и сам удивился. Дочка. А ведь правда — за эти годы она стала ему почти родной. И Кузьма, и соседи, и всё село, которое потихоньку приняло его обратно.
Вечером, когда гости разошлись, когда отгремели тосты и спеты были все песни, Андрей Ильич сидел на крыльце своего дома. Дом теперь был другой — он сам приложил руку к ремонту, помогал чем мог. И крыша новая, и веранда, и даже баньку пристроил.
Калитка скрипнула. Вошла Анна. Села рядом на ступеньку, устало откинулась на перила.
— Устала? — спросил он.
— Есть немного, — она улыбнулась. — Хороший день сегодня. Радостный.
— Ага, — он помолчал, потом решился. — Аня… я всё думаю… Может, попробуем ещё раз? Не спеша. Как соседи. Как друзья. А там видно будет.
Она долго молчала, глядя на звёзды, которые уже зажигались в тёмном небе.
— Знаешь, Андрей, — наконец сказала она. — Я тебя простила. Давно. Ещё тогда, когда ты уехал и стал писать. Поняла, что не чужой ты. Просто жизнь так сложилась.
— А жить вместе?
— А мы и так вместе, — она кивнула в сторону дома, откуда доносился смех Николая и Нюры. — У нас семья. Разве нет?
Он посмотрел на неё, на её лицо, тронутое морщинками, на седые нити в волосах, на спокойные, мудрые глаза. И понял: она права. Семья — это не штамп в паспорте. Это то, что строится годами из писем, из редких встреч, из общих забот и памяти.
— Спасибо, — тихо сказал он.
— За что?
— За то, что есть. За сына. За этот дом. За то, что не вычеркнула.
Анна взяла его руку в свою — тёплую, шершавую от работы.
— Живи, Андрей. Просто живи. Здесь. С нами. А остальное приложится.
Они сидели на крыльце до глубокой ночи, слушая, как в доме шумит молодёжь, как где-то за рекой поёт последняя в этом году птица, как шуршат листья, падающие с клёна. И впервые за много лет Андрей Ильич чувствовал, что он не один. Что у него есть корни. Есть дом. Есть семья.
Наутро он проснулся от стука в окно. За стеклом стояла Нюра, уже не в свадебном платье, а в обычном сарафане, и махала рукой.
— Дядь Андрей, вставай! Коля зовёт рыбачить! Вы ж обещали!
Он улыбнулся, быстро оделся и вышел во двор, где его уже ждали сын с удочками и маленькая Нюра с корзинкой для будущего улова.
— Ну что, орлы, — Андрей Ильич подхватил снасти. — Пошли на реку. Покажу вам одно местечко. Там такая рыба водится — закачаешься!
— Рассказывай, — засмеялся Николай. — Тут все места сто раз хожены.
— Хожены, да не езжены, — подмигнул отец. — Я там, между прочим, в детстве щуку на три кило поймал.
— Батя, ври, да не завирайся, — парень хлопнул его по плечу, и они пошли втроём по росистой траве к реке, над которой только начинал подниматься золотистый осенний туман.
Анна смотрела им вслед с крыльца, и на душе у неё было тепло и спокойно. Жизнь продолжалась. Самая обычная, самая счастливая.
Конец