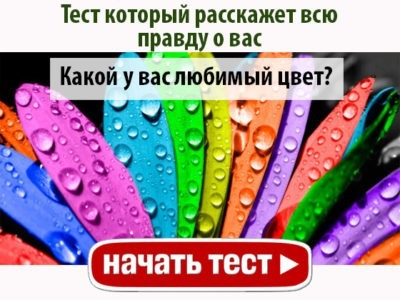1945 год. В послевоенном селе все шептались, как родители-красавцы умудрились произвести на свет такую дурнушку, но их «некрасивая» дочь оказалась единственной, кто вырвался из этой помойки и показал всем кузькину мать, потому что её настоящий отец был вовсе не мужем её матери

На свадьбе Антонины и Геннадия Лужковых мало кто от слёз удержаться мог, но это были слёз не горечи, а тихой, светлой радости и умиления. Казалось, само небо над селом прояснилось, вымытое дождями, чтобы сиять безмятежной лазурью в такой торжественный день. Сельчане, собравшиеся за длинными столами под развешенными на ветвях яблонь полотенцами, помнили Тоню и Гену ещё в довоенное время, когда те, совсем юные, гуляли под ручку по пыльным улицам, а закаты были долгими и алыми, словно предвещая будущие испытания. Теперь же, после долгой разлуки и тревог, их соединение казалось чудом, хрупким и драгоценным, как первая капель после долгой зимы.
– Много таких пар было, молодых да красивых, – вздыхала, глядя на молодых, Марковна, утирая уголком платочка влажные глаза. – И Ольгу со Степаном помню, и сыночка моего, Петрушу, с Мариной. Такие неразлучные были, будто два крыла у одной птицы.
Полина, сидевшая рядом с Марковной, опустила глаза на свои натруженные руки. Соседка упомянула её сына, на которого ещё в сорок первом пришла похоронка. А Маринка, невеста Петрушина, вскоре после той вести вышла замуж за вдовца Антона и сейчас сидела неподалёку, тихо беседуя с супругом. Её лицо, когда-то румяное и оживлённое, теперь казалось усталым и строгим.
– Брось ты, Марковна, покойничка тревожить, – тихо вздохнула Полина, проводя ладонью по скатерти. – Не вернёшь Петеньку. И на Марину не серчай, что ж ей было одной-то куковать, пока жизнь мимо проходит?
– Да нет зла у меня на Маринушку, – махнула рукой пожилая женщина, и в её глазах мелькнула не печаль, а какая-то отстранённая мудрость. – Хотя и рановато, может, она замуж выскочила. И года не прошло, как мы все узнали про Петю-то. Но я ведь ежели и хочу осерчать, гляну на неё – так вся злость, как утренний туман, растворяется. Ты погляди, какая стала она… Будто вся свет из неё вышел.
Полина молча кивнула. Марина и правда словно угасла. Похудела сильно, черна лицом стала, движения её были медленными, обдуманными. Замуж она вышла за вдовца Антона, человека молчаливого и крепкого, как старый дуб. Его не призывали, потому как семерых детей одних растил, без жены и без бабушек в помощь. Да и колхозная бронь у него имелась – кто ж ещё мог управляться с упряжкой лошадей да ремонтировать телеги, если не он? Если кто и удивлялся тому, что несчастная невеста погибшего солдата сочеталась браком с немолодым, обременённым семьей вдовцом, то вслух никто ничего не говорил. Время было такое – не до сантиментов. Замуж в ту пору выходили не за мечту, а за опору, за тихую гавань в бушующем море жизни.
– Да ладно уж о грустном, – будто встрепенулась ото сна Марковна, и на её морщинистом лице расплылась тёплая, солнечная улыбка. – Всё ж радоваться надо, что такая красивая пара у нас женится. Пусть детишки родятся у них славные, в мамку да папку. Нам в селе такие нужны – крепкие, ясноликие. Да и как давно свадебки не гуляли, как давно не веселились от души, чтобы песни лились рекою!
Полина улыбнулась в ответ, и её сердце, отягощённое потерями, на миг согрелось общим теплом. Все вокруг любовались молодыми, и правда, очень уж хороши были жених с невестой, будто сошедшие со старой открытки. Антонина, стройная, с лицом, обрамлённым тёмными волосами, уложенными в простую, но изящную причёску. И Геннадий – высокий, плечистый, с пронзительными голубыми глазами, в которых, однако, таилась тень пережитого. Был он ранен в плечо, и старая рана ныла, особенно к непогоде, порой спать не давала. Но стоило ему взглянуть на свою Тоню, как боль отступала, сменяясь тихим, глубоким счастьем.
То ли в шутку, то ли всерьёз подхватили сельчане слова Марковны о том, что красивые супруги таких же хорошеньких детишек народят. И правда – не было в Баренцево пары статнее и ладнее молодожёнов Лужковых. Казалось, сама судьба предназначила им стать родоначальниками новой, прекрасной ветви на древе села.
В сорок шестом году у этой пары родилась первая дочь, Мирослава. Едва вышла она из младенческого возраста, как стало понятно, что красавицей вырастет девчонка. Всё в ней было от матери – тёмные, как спелая черешня, волосы, большие карие глаза, обрамлённые длинными ресницами, тонкие, изящные черты. Она была живым портретом Антонины в её юности.
Через год на свет появилась вторая дочь, Ксения. Она же, словно в противовес сестре, пошла в отца – светловолосая, с глазами цвета летнего неба, с горделивой осанкой и ясным, открытым взглядом. Она тоже была невероятно хорошенькой, как фарфоровая куколка, привезённая когда-то из города.
Никто в Баренцево не удивлялся красоте девочек, принимая её как должный дар, как естественное продолжение родительской гармонии. Однако кое-чем всё же удивили Лужковы местных жителей: в сорок девятом году родилась третья дочь, Евдокия. Но не унаследовала она ни утончённых, словно выписанных тонкой кистью, черт матери, ни горделивой, скульптурной красоты отца. Вроде бы и угадывались в её круглом личике, покрытом россыпью веснушек, родительские черты – тот же разрез глаз, та же форма губ, – но сложились они как-то иначе, просто, обыденно. Она была до обидного неказиста на фоне своих сестёр, будто художник, создав два шедевра, на третьем решил сэкономить краски и сделал лишь лёгкий, беглый набросок.
Евдокия с раннего детства особняком держалась от Мирославы и Ксении. Относились они к ней со снисхождением, с лёгкой, почти незаметной толикой жалости. А к этим чувствам неожиданно для них самих примешивалась ещё и тихая, непонятная зависть. Зависть не к внешности, а к чему-то другому, незримому.
Увидала как-то тётя Аграфена, соседка, Мирославу и Ксению. Залюбовалась девчонками, что в ситцевых, но оттого не менее нарядных сарафанах сидели на завалинке и плели венки из полевых васильков да ромашек. Солнце играло в их волосах, и казалось, они сами излучают мягкий, золотистый свет.
– Держите, проказницы, – с тёплой улыбкой произнесла Аграфена, протягивая девочкам сладкие петушки на палочках, сделанные из жжёного сахара.
– Спасибо, тётя Граня, это вы сами делали? – восторженно воскликнула Мирослава, схватила два леденца и один тут же вручила сестрёнке.
– Сама, из последнего сахарку, – кивнула соседка. – А где же Дуняша? Надо бы и её угостить.
– Бегает где-то, – небрежно ответила Ксения, пожав хрупкими плечиками, и лизнула леденец, прищурившись от удовольствия.
– Ага, вместо того, чтобы хоть косу красивую заплести, она в огороде копается или по двору гоняется за цыплятами, вся вымазывается, и ещё некрасивее становится, – хмыкнула Мирослава, поправляя свою идеальную, тугую косу.
Аграфена посмотрела на них укоризненно и покачала головой. Что ж поделать, коли младшую дочку Лужковых, кроме как некрасивой Дуняшей, никто в селе и не звал? Даже родители, любя её всей душой, в разговорах с другими невольно сокрушались: «Ну не в нас пошла, не в нас…»
– Как не стыдно вам, девочки? – строго, но беззлобно произнесла соседка. – Да, она не такая, как вы, не выглядит, как заправская куколка, но вы бы не смеялись над ней. Сестра она вам родная, кровная.
– А чего? Она ж у нас везучая, – пожала плечами Мирослава, и в её глазах промелькнула искорка неподдельного любопытства. – У родителей любимица, да и вообще…
– Как же это – везучая, ежели лицом не удалась? – удивилась Аграфена.
– Эх, тётя Граня. За глаза-то люди, бывает, шушукаются, мол, некрасивая, а в лицо ей все улыбаются, привечают. Мамка ей всегда в тарелку кусок послаще суёт, хлебушка с маком краешек. И нас не обижает, а Дуняше всё ж полакомее как-то. И отец что из города ни привезёт – нам конфеты да пряники, а ей – то книжку с картинками диковинными, то ленточку шёлковую, то туфельки, хоть и на вырост, но модные.
– Вот вы на сестрёнку-то и злитесь, – прищурив глаза, произнесла Аграфена, ещё и пальцем пригрозила. – Завидуете, а она ведь младшенькая. Младшеньким всегда кусочек получше, да и внимания больше.
– Да не злимся мы, тёть Граня, – закатила глаза Мирослава, но в голосе её не было злобы, лишь лёгкое, детское недоумение. – Сестра она наша, это ж ясно. Но уж жалеть её точно не за что – живёт себе припеваючи.
Пожала плечами соседка и рукой махнула. Заболталась она с девчонками, у самой ведь дел невпроворот – огород, скотина, дом. А Мирослава с Ксенией в сторону дома направились, болтая о чём-то своём, девичьем. О сестрёнке они будто бы и забыли – у девчат и без того был целый мир, полный грёз и планов.
– Гляди, Мира, Дуняша идёт, – шепнула Ксения, слегка толкнув сестру локтем.
По пыльной сельской дороге, освещённой косыми лучами предвечернего солнца, не торопясь, шла Евдокия. По правде говоря, не была она так уж безобразна. Просто обычной. Обычное круглое лицо, обычные светлые, прямые волосы, собранные в непослушный пучок, обычные, невыразительные на первый взгляд глазки серого цвета. Но люди невольно сравнивали её с родителями и сёстрами, и на их фоне она терялась, растворялась, как полевая ромашка в пышном садовом букете. Немало было в селе простушек с такими же лицами и веснушками, но про них говорили: «Перерастёт, выправится, миловидной станет». Глядя же на младшую Лужкову, все понимали – останется она всегда в тени своей ослепительно красивой семьи.
– Вот всегда удивляюсь, чего ж у Дуняши рот всегда до ушей, когда улыбается, – с недоумением, но без насмешки пробормотала Мирослава, наблюдая, как девочка приближается к ним.
В руках у Евдокии было столько всего, что она еле удерживала груз. Девочка держала плетёную корзину, доверху наполненную грушами – спелыми, янтарными, такими душистыми, что их медовый аромат разносился по всей улице, смешиваясь с запахом пыли и полыни. И в той же корзине, поверх фруктов, лежали румяные пряники и пухлые баранки.
– Откуда такие груши? – ахнула Мирослава, забыв на миг о всяком сравнении. – У нас в Баренцево я отродясь таких не видывала! Словно с юга!
– А они и есть с юга! – весело ответила Евдокия, и её серые глазки-бусинки заискрились таким искренним, тёплым светом, что лицо её на мгновение показалось даже привлекательным. – К Фроловым брат приехал из кубанских земель, целый воз гостинцев привёз. Пойдемте в дом, угощаться будем! Я специально вам побольше набрала.
Старшие сёстры переглянулись, и в глазах их мелькнуло стыдливое удивление. Затем они, забыв про свою важность, поспешили за младшей домой. Увидев Евдокию, нагруженную дарами, мать так и всплеснула руками.
– Это ж откуда такие дары щедрые? Словно на праздник!
– Из Кубани, мамуль! От тёти Нонны Фроловой!
– Слыхала я, что у Фроловых гости заморские. Да только чем ты их так раздобрила, душенька? И груши, и пряники, и баранки!
– И конфеты ещё, – Евдокия вытащила из кармана сарафана несколько леденцов в ярких обёртках. – Да и не делала я ничего особенного. Просто зашла за махоркой для отца, разговорилась с тётей Нонной, вот она меня на ужин и позвала. А там брат её, дядя Миша. Кушай, говорит, девочка, отъедайся, щёчки розовее будут.
– А ты чего?
– А мне как-то неловко было, стыдно сладостями рот набивать, когда и вы, и сёстры такое тоже поесть бы захотели. Сказала, что не голодна, и стала пустой чай с сушками пить, похвалила, как всё вкусно приготовлено. Тётя Нонна увидела это и будто бы всё поняла. А когда я к двери направилась, нагрузила меня всякой всячиной, на прощанье по голове погладила, – Евдокия широко, по-детски улыбнулась, и это беззубое сияние преобразило её лицо.
Мать поглядела на младшую дочь долгим, задумчивым взглядом. Затем кивнула едва заметно, будто в её душе щёлкнул невидимый замок, отворивший потаённую дверцу к пониманию.
«Вот чем Дуняша берёт, – подумала Антонина, и сердце её сжалось от нежности. – Никогда не тянет одеяло на себя, всегда улыбчива, за других радуется, а о себе и не думает. И люди это чувствуют. Чувствуют и тянутся к ней, дороже красоты эту простую доброту ценят».
Так всё и было. Даже Геннадий, который тепло и справедливо относился ко всем трём дочкам, испытывал к младшенькой особую, трепетную нежность. Никогда она ни о чём не просила напоказ, сама всегда рвалась помочь, подменить уставшую мать, принести отцу в поле обед. Потому отцу и хотелось её радовать, баловать этими маленькими, неброскими знаками внимания – книжкой, необычной пуговицей, куском яркого ситца.
– Мам, – отвлекшись от сочной груши, произнесла Мирослава, – а когда мы мне новое платье сошьём? Есть же тот розовый ситец с цветочками. Очень уж хочется наряд к осенним посиделкам.
– Портниха у нас одна на всё село – тётя Галина, – со вздохом ответила Антонина, – а работы у неё – по горло. Пошла я к ней с нашим ситцем, она меня чуть ли не с порога погнала – очередь, мол, расписана на два месяца вперёд.
– Мам, а я слышала, что тётя Галя помощницу себе ищет, – тихо, но внятно вклинилась в разговор Евдокия. – Может, кому из нас швеёй стать? И ей помощь, и нам наука.
– Я бы хотела! – встрепенулась Мирослава, и глаза её загорелись. – Научила бы меня наша портниха шитью, я б и сама себе наряды мастерила. А потом, глядишь, и в город бы уехала, чтоб на фабрике или в ателье работать.
– И я в город хочу! – воскликнула Ксения. – И мне шить хочется. Только учить некому. А если бы тётя Галя сподобилась взять кого в ученицы, была б я ей первой помощницей.
Растерянно мать поглядела на старших дочерей. Знала она их характер – немного ветреный, немного капризный. И что платьиц своих они ждут, как манны небесной, тоже понимала. Сама Антонина шила девочкам одежду, когда те малы были, но теперь-то выросли они, стали модницами, захотели наряды, как у городских. Потому не нужны им были простые платья да сарафаны, наскоро сшитые материнскими руками на ночной кухне при свете коптилки.
– Тоня, а может, отведём дочек к Галине, – предложил Геннадий, входя в горницу и снимая картуз. – Пусть посмотрит, возьмёт кого их них в подмастерья. Это ж и дома своя швея будет, и профессия для девочки хорошая, почётная.
Подумала Антонина и кивнула. Решила она на следующее утро повести старших дочерей к Галине, а в последний момент взгляд её упал на Евдокию, тихо доедающую грушу за общим столом.
– Дочка, может, и ты с нами пойдёшь? – предложила она, не ожидая согласия.
Но Евдокия, к всеобщему удивлению, обрадованно кивнула. Старшие же сёстры даже возражать не подумали, лишь переглянулись с лёгкой усмешкой, поглядывая на пухлые, коротковатые пальцы младшей. Где такими ручищами тонкую работу делать? Иголку и ту удержать будет сложно.
Перешёптывались девочки по дороге беззлобно, похихикивали. Младшую сестру при этом обнимали за плечи, понимая, что не возьмёт её в ученицы суровая и требовательная тётя Галя, ценящая в первую очередь ловкость и изящество.
– Да куда ж ты весь свой цветник привела ко мне, Тоня? – удивилась портниха, Галина Семёновна, женщина сухощавая, с острым взглядом и вечными напёрстком на пальце. Её изба была завалена рулонами тканей, лентами, коробками с нитками.
– Учиться мои дочки хотят, научи их, Галь, – ответила Антонина. – И тебе помощь будет, и профессия на будущее, не пропадут девчата.
– Профессия, говоришь, – хмыкнула портниха и оценивающе окинула взглядом трёх сестёр, остановившись на старшей, Мирославе. – Что ж, дело хорошее.
– Да! – воскликнула Мирослава, не удержавшись. – Выучусь и в город уеду! В большое ателье работать буду, наряды столичные шить!
Покраснела мать, услышав свою дочь-выскочку. Шлёпнула её пониже спины, как маленькую, чтобы глупости не выкрикивала с порога.
– А на кой мне такая помощница, которая только о городе да ателье мечтает? – усмехнулась швея, но в глазах её мелькнул интерес.
– Да не слушай ты её, Галь! – с досадой воскликнула Антонина. – Какой ей город? Ателье ещё выдумала. Работать будет, честно будет.
– Ну что ж, ладно, – сказала Галина Семёновна, и её лицо стало деловым. – Посмотрим на сноровку. Будет хорошо и прилежно трудиться – быстро всему обучится.
Зарделась Мирослава, лестно ей было, что разговор зашёл именно о ней. Значит, выбрала себе портниха помощницу, самую старшую, самую видную решила взять.
Но Галина Семёновна, не говоря больше ни слова, сунула каждой девочке по небольшому лоскутку простой бязи, по иголке с ниткой и по одной одинаковой пуговице.
– Вот вам задание, – сказала она строго. – Пришейте пуговицу крепко да ровно. Да пошустрее, времени у меня немного.
Мирослава с азартом схватила лоскут, отмерила нить длиннющую, да так в ней и запуталась, краснея от досады. Усмехнулась, глядя на неё, портниха. Ксения вообще шить толком не умела, уколола палец иглой, аж всплеснула руками, и слёзки навернулись. Пока старшие сёстры возились, спорили и кое-как, с кривыми стежками, пришивали свои пуговицы, Евдокия, сидевшая в уголке на табуретке, уже молча протянула свой лоскуток. Пуговица сидела на нём аккуратно, ровно, стежки были мелкими и одинаковыми, узелок аккуратно спрятан.
Девочка будто бы и не спешила, не суетилась. Она просто тихо, сосредоточенно и с какой-то врождённой внимательностью выполнила то, что от неё требовалось. Галина Семёновна взяла работу, повертела в руках, а затем с редким для неё выражением удовлетворения кивнула.
– Вот и ученицу я себе нашла, – твёрдо произнесла она и впервые за весь визит по-настоящему улыбнулась, обращаясь к Евдокии.
Мирослава и Ксения даже не сразу поняли, что произошло. Они были так увлечены своим соревнованием, поглядывали на работу друг друга, спорили о том, у кого лучше получилось, что о младшей сестрёнке и не вспомнили.
– Какую ещё ученицу? – удивилась Мирослава, и тут же её взгляд упал на лицо Евдокии – широкое, с веснушками, некрасивое и в этот момент немного растерянное, но светящееся изнутри тихой радостью.
– Вы, девочки, ступайте с матерью, а Дуняша со мной останется, – кивнула портниха. – Будем учиться. Чем скорее обучу, тем раньше толковая помощница у меня будет. Вот тогда и до ваших сарафанов доберусь в первую очередь.
Антонина не могла скрыть лёгкого, изумлённого удивления, смешанного с гордостью. Не думала она, что младшую, тихую дочь возьмётся учить суровая Галина. А вон как оно вышло! А вот Мирослава с Ксенией ушли притихшие, слегка расстроенные, но без злобы – на Евдокию как-то и сердиться не получалось.
– Девочки, я как научусь, вам буду и платья, и юбки самые модные шить! – воскликнула им вслед Евдокия, просияв всем своим неказистым, но вдруг ставшим милым личиком.
– Да ладно уж тебе, – со вздохом, но уже с улыбкой ответила Мирослава. – Учись да старайся.
Способной ученицей оказалась Евдокия, очень быстро снискала она расположение строгой мастерицы. Галина Семёновна, грубоватая и требовательная, терпеть не могла лени и нерадивости, но когда видела прилежание, аккуратность и настоящую, немеханическую любовь к делу, не могла не отметить это и не похвалить. Многие женщины в Баренцево шить умели. Кое у кого даже машинка «Зингер» дома имелась, большая редкость по тем временам. Но для пошива по-настоящему хорошего, сложного платья, для работы с тонкими тканями или модным кроем все равно шли к Галине. Очередь к ней выстраивалась на месяцы вперёд, ведь приезжали заказчики из соседних сёл и даже из районного центра. С появлением же Евдокии дело пошло веселее. Девочка оказалась не только прилежной, но и удивительно понятливой. Уже через год она шила легко и проворно, а её швы были такими же ровными и крепкими, как у наставницы.
– Глаз-алмаз у тебя, руки золотые, – хвалила, бывало, Галина Семёновна, разглядывая очередную работу ученицы. А если та, случалось, ошибётся, – ругала строго, и Евдокия переделывала всё в ту же ночь, при свете керосиновой лампы, не жалуясь и не ропща.
Шила она платья и сёстрам, и матери, у которой от долгой работы в колхозе болели руки. Да и отцу рубашки новые мастерила, такие, что на праздник надевать не стыдно. Годы шли, учились девочки в школе. Евдокия же после уроков занималась любимым делом, да ещё и первые, собственные деньги зарабатывала – каких порой родители, работающие за трудодни, и в глаза не видели. Лишь одна мысль порой омрачала юную швею.
– Мира, я вот что спросить хотела, – сказала как-то девушка сестре, когда они вечером вышивали на крылечке. – Вы ведь с Ксюшей когда-то давно о городе мечтали. Чтоб уехать из Баренцево, и там жить, судьбу свою найти.
– До сих пор мечтаю, – вздохнула Мирослава и взглянула на младшую сестру снисходительно, но без былой насмешки. Хотя и повзрослела Евдокия, в девушку превратилась, а всё же лебедем не стала – осталась простой, миловидной, но не броской. – Вот только…
– Ты ведь школу вот-вот закончишь, – тихонько продолжила Евдокия. – Значит, уедешь? В училище какое или на работу?
– Не уеду, – помотала головой Мирослава, и в её голосе прозвучала неожиданная горечь. – Куда мне? Подруги мои одна на медсестру собралась, другая в педагогический. А я ни то, ни другое. Здесь останусь. Наверное, замуж выйду.
– Это из-за того, что швеёй у тебя стать не получилось? – опустив глаза на своё шитьё, спросила Евдокия.
Мирослава горько рассмеялась и покачала головой. Это ведь по юности и глупости они с Ксенией так рассуждали. В город поехать и в ателье работать – смех один! Там таких портних, да ещё и с образованием, пруд пруди. Или идут они на фабрику, где шьют пододеяльники и сорочки на конвейере, совсем не то, о чём она мечтала.
– Замуж выйду, – повторила Мирослава, и в её словах прозвучала не мечта, а некая обречённость. – Надо мне мужа такого, что всю жизнь на руках носить будет. Который подарками осыпать станет, слушаться во всём, ещё и чтоб руки золотые были, дом – полная чаша.
– А где ж такого найти? – мягко улыбнулась Евдокия.
– Да с моей-то красотой это простое дело, – с привычной, но уже потускневшей уверенностью пожала плечами Мирослава и откинула назад густую гриву каштановых волос.
Евдокия лишь кивнула. Может, сестра и права. Красивые, наверное, могут надеяться на большее. Сама же она всегда понимала, что до сестёр ей не дотянуться, но совсем не грустила из-за этого. Наоборот, казалось девушке, что больше ей достаётся родительского тепла, простого человеческого участия, да и самого обычного, тихого везения. Вот даже как с шитьём вышло…
Как в воду глядела Мирослава. Не прошло и года после окончания школы, как она выскочила замуж за Александра Ельцина, своего давнего одноклассника, парня видного, весёлого, который клятвенно обещал носить её на руках и жизнь положить к её ногам. Платье свадебное ей Евдокия сшила сама, без помощи наставницы, и ткань на это платье – белоснежный атлас с кружевами – добыла в городе через знакомых Галины Семёновны.
– Слов нет, сестрёнка, – прошептала Мирослава, разглядывая своё отражение в большом, треснувшем зеркале. – В Баренцево никогда ещё таких невест не было. Я сама на себя не нагляжусь.
– Ты прекраснее всех, – с искренней радостью ответила Евдокия, поправляя фату. – В любом наряде хороша была бы. Но платье и правда удалось. Всю душу я в него вложила.
Радовались и родители, глядя на старшую дочь. Они ведь понимали её нежелание учиться дальше, её мечты о лёгкой, красивой жизни. А тут вот и семьёй обзавелась, и рядышком будет, в соседнем доме. Ни в какой город не уедет, не потеряется.
Вокруг Ксении на свадьбе, как мотыльки вокруг огня, крутились молодые парни. И морс-то в бокал подливали, и на танец приглашали наперебой, а она лишь томно улыбалась, принимая это как должное.
– Глядишь, и ты скоро замуж выскочишь, – подтолкнула Мирослава сестру, выходя на минутку из круга гостей.
– Выскочу-выскочу, и не сомневайся, – хмыкнула Ксения, поправляя локон. – Только не тороплюсь я. Пусть все желающие в очередь встанут.
– Так не теряйся, хватай самого видного да состоятельного, – рассмеялась Мирослава, но в смехе её прозвучала лёгкая нотка усталости.
– А мне не надо «самого», – высокомерно, по-юношески заявила Ксения. – Мне надо – единственного и неповторимого. И чтоб не из нашей глуши. Это ты за первого встречного пошла.
– Это я-то за первого встречного? Хорошего ж ты мнения о моём муже. Небось, сама о таком мечтаешь, а не тут-то было, – рассердилась Мирослава, и красивое лицо её помрачнело.
– Знаешь, сестрёнка, захоти я деревенского пойти, уже вперёд тебя бы выскочила. Да только запросы у меня побольше некоторых, – отрезала Ксения, и её голубые глаза стали холодными. – Так что иди-ка ты к своему Сашке. Вон, глотает рюмку за рюмкой. До конца свадьбы так не дотянет, куролесить начнёт, а потом упадёт прямо у стола, как мешок.
Разозлилась Мирослава, губы её задрожали, но она лишь резко отвернулась от сестры. Поглядела на своего молодого мужа, уже изрядно развеселившегося за праздничным столом, и почувствовала в груди неприятный, холодный комок раздражения и тревоги. Неужто он всё не остановится никак?
– А ну, рюмку поставь! – воскликнула она, подойдя к нему и строго глядя в покрасневшее лицо.
– А чего это, моя жёнушка, указывать мне вздумала в такой день? – с пьяным вызовом произнёс Александр, обнимая за плечи соседа. – Давай, Борь, ещё по одной, за любовь!
– Поставь, говорю! Не нужен мне муж пьяница на моей же свадьбе!
– Ох, как ты заговорила, царица, – засмеялся он, но смех его был неприятным. – Знаешь, Любка, хоть ты и красавица писаная, а помыкать мной я тебе не дам. Мужиком всегда в своём доме буду, заруби себе это на носу.
Расплакалась тогда Мирослава, слёзы потекли по её белым, как лепестки, щекам, смывая румяна. Она убежала в дом, в горницу, где ещё пахло краской и свежей побелкой. Евдокия бросилась за ней, обняла, стала успокаивать, гладить по волосам, шептать ласковые слова. А потом, с неожиданной для всех решимостью, вышла к гостям и подошла к Александру. Негромко, но так, что его собутыльник отодвинулся, она сказала, чуть ли не стукнув ладонью по столу:
– Ты чего это вытворяешь здесь? Жену свою, всю в слезах, позоришь. Повезло тебе, что отец наш с дядей Тихоном весь вечер разговаривает, не виделись они десять лет. А то ведь крепко бы поговорил с таким зятьком, что в свой же праздник за воротник заливает!
– Ты чего это, малая, учить меня вздумала? – хотел было возмутиться Александр, но почему-то осёкся, встретившись взглядом с маленькими, но теперь горевшими твёрдым светом глазами свояченицы. Он смущённо опустил взгляд, поставил недопитую рюмку на стол. – Да я ведь… по-хорошему…
– Иди к жене своей, мирись уже! – произнесла всё ещё сердитая, но уже без крика Евдокия. – И покажи, что ты не последний человек, а настоящий муж, который может и остановиться, когда надо.
– Пойду, пойду, – пробормотал молодой супруг, пошатываясь, и поплёкся в дом.
Шёл он, сам себе удивляясь. Чем это некрасивая, тихая Дуняша так сумела его задеть, пронять? Виной ли тому её голос, тихий, но удивительно внятный, лишённый всякого кокетства и истерики? Или этот спокойный, уверенный взгляд, в котором читалось не злость, а разочарование и требовательность к лучшему? Этого Александр понять не мог, но противостоять ей, этой девушке с веснушками и прямыми плечами, не решился.
А вот Ксения на свадьбе сестры действительно нашла парня, достойного её взгляда. К одной из подруг Мирославы приехал троюродный брат из областного центра. Николай учился на инженера, был на последнем курсе. И хотя там, в городе, он был избалован женским вниманием, эта деревенская красавица с холодными голубыми очами и гордой осанкой покорила его с первого взгляда. Через несколько недель после свадьбы сестры Ксения объявила родителям:
– Мам, пап, я в город уезжаю.
– Как это? – ахнула Антонина, уронив ложку. – Неужто учиться надумала? И на кого ж?
– Учиться я буду, – кивнула Ксения, и в её глазах горели не знакомые матери огоньки мечты, а холодные, целеустремлённые искры. – Медсестрой хочу быть, а там, глядишь, и в медицинский институт поступлю. Коля говорит, высшее образование сейчас очень ценится.
– Какой ещё Коля? – нахмурился Геннадий, откладывая газету.
– А тот самый, что с сестрой на Мириной свадьбе был. Я замуж за него выхожу! – заявила Ксения тоном, не терпящим ни малейших возражений.
Родители пытались удержать дочь – очень уж скоропалительным, внезапным было её решение. Ведь Колю-то до этого дня никто в семье толком и не знал.
– Не отговаривайте меня, – покачала головой Ксения, и её красивое лицо стало непроницаемым. – Не выйдет ничего. А если силком держать станете, я всё равно убегу. Он ждёт меня.
– Да чего ж держать-то тебя, дочка? – тяжело вздохнул Геннадий, смотря куда-то в сторону, за окно, где темнело осеннее небо. – Шибко любишь, видать, раз так рвёшься. Или город этот самый любишь?
Антонина же ничего не сказала, только вздохнула ещё тяжелее, и в глазах её стояла безмолвная печаль. Хотелось ей верить, что по большой, всепоглощающей любви уезжает её дочь. Но слишком хорошо знала она свою красавицу – та ведь с юности бредила городом, его огнями, его незнакомыми улицами. Всё мечтала, как уедет из села и за городского, образованного парня замуж выйдет. И вот оно… случилось. Быстро и безоглядно.
Мирослава, как вышла замуж, переехала в родительский дом супруга, стоявший через улицу. Ксения уехала в город, поступила в медицинское училище, а вскоре и скромно расписалась с Николаем.
Евдокия же осталась с родителями в родном доме. Он теперь казался просторнее и тише.
– Смотрю я на нашу младшенькую, и тихая печаль меня одолевает, – призналась как-то Антонина перед отходом ко сну, глядя на потолок, по которому бродили тени от догорающей лампадки.
– Отчего ж ты печалишься? – спросил Геннадий, поворачиваясь к ней. – Хорошая девчонка растёт. Работящая, душевная, умница.
– Хорошая, спору нет, – согласилась Антонина. – Да только замуж-то кто её возьмёт? Неужто всю жизнь ей с матерью и отцом куковать, на чужие радости глядючи?
– Да рано тревожиться о том. Ещё и восемнадцати нет девчонке. Успеется. Видишь, какая она самостоятельная, свой путь найдёт.
– Да как же успеется? Парни они ведь на что в первую очередь смотрят? На мордашку милую да на стати. А наша что? Простушка. Добрая душа – это внутри, это разглядеть надо. А кто будет разглядывать?
Замолчал Геннадий и даже покраснел от смущения. Чужды ему были такие приземлённые, жестокие расчёты. Для него Дуняша всегда была красавицей, только красота её была иной – не броской, не ослепляющей, а тёплой, как свет от печи, как запах свежеиспечённого хлеба. Она была самой родной, самой надёжной.
– Что ж ты так на нашу дочурку-то, Тоня? – укоризненно, но без упрёка произнёс он. – Разлюбила, что ли?
– Пойми, Гена, люблю я её не меньше твоего, может, даже и больше, потому как за неё тревожусь, – снова вздохнула Антонина, и слёзы выступили у неё на глазах. – Золотце она моё, сокровище тихое. Но жизнь-то она какая… Суровая. Без внешнего лоска в ней тяжело пробиться к простому женскому счастью.
– Мам, а я Миру сегодня видела, – сказала как-то вечером Евдокия, помогая матери перебирать крупу.
– А что в том удивительного? Она ведь через улицу живёт, – отозвалась Антонина, не поднимая головы.
– Да знаешь, я помахала ей, хотела подойти, новую кофточку ей показать, что сшила. А она на другую сторону улицы перешла и шаг ускорила, будто не заметила меня.
– Да, может, и правда не заметила? Задумалась о чём-то своём. А ты уж и переполох подняла! – ответила мать слишком быстро, слишком бодро.
– Ещё как заметила. Взглянула прямо на меня и сразу глаза отвела. И знаешь, мам, будто бы специально на другую сторону перешла, лишь бы со мной не встречаться, не разговаривать.
Покачала Антонина головой и назвала дочку выдумщицей, склонной всё драматизировать. Потом поспешно перевела разговор на урожай яблок и планы на зиму. А всё потому, что не хотела обсуждать то, что давно тревожило её саму и о чём она догадывалась.
Не так всё ладно и гладко было в семье у старшей дочери. Пару раз видела она Мирославу с лицом, опухшим от слёз, с синяком под глазом, который та пыталась замазать белилами. Спросила тогда мать, что случилось, а дочь придумала нелепое объяснение про упавшую дверцу печки.
Хотелось тогда Антонине вытрясти из дочери правду, не обижают ли её в доме мужа, да не стала, побоялась разрушить и без того хрупкий мир. Понимала она, что своей семьёй живёт Мирослава, сор из избы выметать не желает. И если захочет помощи, то сама придёт и всё расскажет.
«Потому и не захотела она с Дуняшей видеться, – с горечью подумала мать. – Видать, опять глаза заплаканные, опять унижение на душе. Стыдно ей перед сестрой, которая хоть и не красавица, а живёт ровно, спокойно, уважение себе заработала. Ох, Миронька моя, что ж там с тобой происходит?»
– Мам, – вдруг произнесла Евдокия, откладывая миску с крупой и поднимая на мать свой спокойный, ясный взгляд. – Я ж тут поговорить хочу про одно важное.
– Если ты опять про Мирку, то не надо. Всё у неё хорошо, сама говорила. Было бы плохо, пришла бы да пожаловалась.
– Да не о Мире я. О себе.
– А о чём? – насторожилась Антонина.
Евдокия сначала побледнела, затем густым румянцем залились её щёки. Глаза её, маленькие и серые, заблестели, как два влажных камня, а всё лицо на мгновение осветилось таким внутренним сиянием, что стало будто бы даже красивым, одухотворённым. Набрала девушка воздуха полной грудью, затем выдохнула.
– Мам, а у меня жених есть, Вячеславом зовут, – выпалила она на одном дыхании, словно боясь, что мужества не хватит.
Антонина так и обмерла на стуле. Показалось ей, будто ослышалась, что ветер за окном слова какие-то принёс. Какой жених-то у некрасивой, тихой дочки? Откуда? Отродясь никого рядом с ней не видели, никаких намёков, разговоров, взглядов.
Опустив глаза и теребя край фартука, Евдокия рассказала матери, как всё было. Окончив школу, она, чтобы не сидеть на шее у родителей, устроилась подсобной работницей в школьную столовую. На раздаче стояла, посуду мыла, полы драила. Работа была не пыльная и хороша тем, что график позволял уделять время шитью, заказам, которых с каждым месяцем становилось всё больше. А в школу ихнюю по распределению из пединститута уже пару лет как был направлен молодой учитель математики Вячеслав Андреевич Бирюков.
– Вот так он и появился, и сразу ж на тебя глаз положил? – удивилась мать, всё ещё не веря. – Ага, образованный человек, городской, учитель!
– Да нет же, мам, – засмеялась Евдокия, и смех её был лёгким, серебристым. – Он уже два года в школе преподаёт. А я туда после школы пришла работать. И сначала мы так, мимоходом, здоровались. А потом разговорились как-то в буфете, когда народа не было.
– И как же ты умудрилась с учителем-то подружиться? Там же кругом девчата молодые, учительницы… – не унималась Антонина.
– А вот ты верно, мам, сказала – подружились мы. У нас там и правда девчата в буфете одна другой краше, и молоденькая учительница литературы на него, говорят, глаз положила. И так, и сяк они к Вячеславу Андреевичу, улыбаются, разговоры затевают…
– Всё равно не понимаю. Как же он тебя среди такого цветника разглядел? – перебила её мать, в голосе которой звучало уже не недоверие, а жгучее любопытство.
– Да потому, наверное, и разглядел, что я не в цветнике была, – просто сказала Евдокия. – Он будто бы прятался от всех этих взглядов и улыбок, а ко мне подходил просто поговорить – о погоде, о книгах, о том о сём. Я с ним не кокетничала, глазки не строила, не прихорашивалась при нём. Зато шутила, смеялась, рассказывала смешные истории про заказчиц. А потом он признался мне, что от моей улыбки и от моего спокойного голоса ему на сердце легко и хорошо становится. Видит меня, говорит, и душа отдыхает от всей этой суеты.
– А как женихом-то он тебе стал? Когда это успело случиться? – Антонина уже придвинулась к дочери, забыв про крупу.
– Да как-то незаметно, мам. То он просто подходил ко мне поговорить на перемене, то два компота в буфете покупал – себе и мне. А как-то раз конфет шоколадных принёс, помнишь, я домой приносила?
– Помню, думала, от учеников или от родителей в благодарность за пошив.
– Нет, мам, это от Славы. А тут он как-то после родительского собрания заявил, что провожать меня будет до дому, поздно, мол, темно. Вот тогда-то у нас и зашёл разговор серьёзный, кто мы друг другу и чего хотим.
– И к чему же привёл этот разговор? Как решили-то? – замерла Антонина.
– А то и решили, что пожениться нам надо. Только вот… – Евдокия вдруг замялась.
Затрепыхалось в груди матери сердце, будто испуганная птичка в клетке. Ох, что же «только вот»? Что за препятствие?
– Мам, Слава ведь к нам по распределению приехал, – тихо, почти шёпотом произнесла Евдокия. – У него в городе родители, квартира хорошая, большая. Мечтает он не в школе всегда преподавать, а в институте, а для этого надо дальше учиться самому, какую-то научную работу писать…
– Работу? – переспросила Антонина, не понимая.
– Ой, нет, кажется, не работу, а диссертацию! Вот. И через полгода у него срок отработки в селе заканчивается. И он… он хочет, чтобы я с ним в город поехала.
Не выдержала тогда Антонина. Все накопленные за годы тревоги, вся любовь, вся гордость за эту неожиданную, такую желанную удачу дочери вылились в тихие, но бурные слёзы. Она разрыдалась, обняла Евдокию и прижала к себе, как маленькую. И дочь, тоже плача, но уже от счастья, прильнула к материнскому плечу.
На ужин-знакомство, который решили устроить через неделю, Евдокия настояла, чтобы пригласили и старшую сестру с мужем и маленькой племянницей Катенькой. Мирослава, кажется, хотела отказаться, сославшись на нездоровье дочки, но, услышав в голосе сестры твёрдую, ласковую настойчивость, не решилась.
За столом, накрытым лучшей скатертью, Мирослава вела себя скованно, почти неестественно. Она всё поглядывала на сестру и её жениха с немым, откровенным удивлением, смешанным с какой-то сложной, невысказанной грустью. Но чаще её взгляд украдкой скользил к мужу. Александр же, вначале смущённый и тихий, постепенно разошёлся и уже закидывал одну рюмку за другой, громко смеясь и перебивая рассказ Вячеслава о городской жизни.
– Прекращай уже, ты позоришь меня, – шикнула тихонько Мирослава, наклонившись к нему.
– А ты почём раскомандовалась тут, а? – возмущённо, уже громко, произнёс Александр. – Не указ ты мне в гостях, поняла? Я мужик, мне можно.
Вот только эту перепалку услышали не только родители, но и Вячеслав, и сам Геннадий. И под тяжёлым, суровым взглядом тестя и будущего свояка, Александр вдруг присмирел, ссутулился и уткнулся в тарелку, угрюмо и безмолвно доедая уже остывший ужин.
– Поверить не могу, сестрёнка, – со вздохом, в котором звучала неподдельная, лишённая зависти горечь, произнесла Мирослава, когда они с Евдокией вышли на крыльцо подышать воздухом. – Что мои-то девичьи мечты у тебя, выходит, исполнились. Жениха хорошего, умного, красивого нашла, да ещё и в город с ним поедешь, в новую жизнь.
– Миренька, давай-ка мы с тобой не обо мне поговорим, – тихо, но настойчиво попросила сестра, беря её за руку. – Тебе ж плохо, я вижу это. И сегодня отец увидел. Все увидели.
– А я б лучше про тебя и Славу поговорила. Про твоё счастье. Не хочу о себе. Совсем не хочу, – грустно, по-детски ответила Мирослава, и голос её задрожал.
– Миронька, милая, так нельзя. Нельзя так жить, в постоянном страхе и унижении.
– Он мой муж, и деваться мне некуда. Судьба моя такая. Потому лучше и не думать про это, не говорить. Мой удел – терпеть.
– Миренька, дорогая, послушай ты меня. О Катюшке подумай. Мы ведь росли, и какой пример отца перед глазами у нас был? Добрый, сильный, трезвый. Не брал он в рот ни капли спиртного, кроме как по большим праздникам, да и то чуть-чуть, для веселья. А Катя что видеть будет? Как отец её матери руку поднимает? Как слова ласкового от него не дождёшься?
Не выдержала тогда Мирослава. Вся её напускная холодность, вся гордая выдержка рассыпались в прах. Она разрыдалась, горько, навзрыд, и кинулась в объятия сестры. Стала жаловаться, что жить так невозможно, что темнота кругом, и готова она хоть в петлю лезть, да Катюшку жалко. Что и любви уже к Сашке никакой не осталось, а виной всему – проклятая, зелёная бутылка, которая стала в их доме и хозяином, и палачом.
Долго у сестёр поговорить не получилось. Вскоре на крыльцо вышел Вячеслав, разыскивая невесту, да и родители забеспокоились. Но Евдокия, крепко обняв сестру, пообещала, что не оставит её в этой беде. Вытянет, даже если та сама уже и сил бороться не имеет.
За ужином было решено, что свадьба Евдокии и Вячеслава состоится через три месяца. Пока будут жить в селе, в маленьком доме, что выделил учителю сельсовет. А через полгода, как раз закончится срок отработки, – переезд в город.
На следующий день после этого памятного вечера Евдокия заговорила с отцом о Мирославе. Геннадий, хмурый и озабоченный, согласился: дела у старшей дочки плохи, хуже некуда.
– Только последнее дело это – в чужую семью лезть, дочка, – покачал он головой, но в глазах его читалась беспомощность. – Муж и жена – одна сатана, как говорится. Нам-то что, чужим людям, советовать?
– Последнее дело – оставлять в беде родного человека, когда он тонет и сам уже выплыть не может, – уверенно, с неожиданной для её лет твёрдостью заявила Евдокия.
С удивлением, смешанным с гордостью, поглядел Геннадий на младшую дочь. Такой она была мудрой не по годам, такой настоящей, и взгляд её, обычно мягкий, сейчас был пронзительным и ясным. И волей-неволей согласился с ней отец, почувствовав, что в этой хрупкой девушке живёт стержень, которого, увы, не хватило её прекрасной сестре.
Не так-то просто было помочь Мирославе. Та, запуганная и потерявшая веру в себя, сначала и сама противилась, боялась скандала, осуждения соседей, гнева свекрови. Но пил Александр теперь уже каждый день, а его мать лишь отмахивалась от жалоб невестки, приговаривая, что с такой строптивой да холодной женой немудрено и в бутылке утешения искать.
Попытался Геннадий, собрав всю свою волю, поговорить с зятем по-мужски. И хотя был он красноречив и убедителен, ненадолго хватило уговоров. Александр не пил неделю, ходил, как в воду опущенный, а потом сорвался с новой силой, да ещё и приложил руку к жене, когда та попыталась отобрать бутылку. Вот тогда-то, не спрашивая больше ничьего совета, Геннадий пришёл в дом к дочери. Он вошёл без стука, и вид у него был такой, каким он бывал только в самые тяжёлые, военные годы.
– Собирай вещи и Катю. Идёшь домой, – заявил он тоном, не терпящим возражений, ни разу не взглянув на зятя, который сидел за столом, понурый и бледный.
Свекровь взвыла, запричитала, пыталась загородить дверь, кричала, что невестка сама во всём виновата, не может мужа удержать, хозяйкой плохой вышла. Любопытно, что сам Александр в тот момент был уже изрядно пьян и только глухо мычал, уткнувшись лбом в стол.
– Папа, может, дать ему ещё один шанс… – прошептала Мирослава, вся в слезах, сжимая в руках узелок с детскими вещами.
– Молчи и собирайся, – отрезал Геннадий, и в его голосе прозвучала такая отеческая, непререкаемая власть, что дочь замолчала, будто снова став маленькой девочкой, которую вот-вот отругают за шалость. Она кивнула, сломленная, но и облегчённая, и быстро завершила сборы.
Так Мирослава с Катюшей вернулись под отчий кров. Александр ещё не раз приходил, то с угрозами, то с мольбами, но Геннадий однажды сказал ему на пороге: «Приходи, когда протрезвеешь насовсем. А пока – не смей ноги к моему дому топтать». И эти слова, сказанные тихо, но с ледяной steel, подействовали.
– Катюшке здесь спокойнее будет, – утешала Евдокия сестру, укладывая племянницу спать. – А ты мне поможешь к свадьбе готовиться, будешь мне и подружкой, и советчицей.
Что-то хотела ответить Мирослава, да снова расплакалась. И сквозь слёзы призналась, что уйти было самым правильным, самым нужным решением в её жизни.
– Стыдно, конечно, к отцу с матерью под крыло возвращаться, да и разводиться – позор в селе, – сказала она, глядя в темноту за окном. – Но жить с пьяницей, который тебя ни во что не ставит… это страшнее любого позора.
Летело время, и наступил день свадьбы Вячеслава и Евдокии. Праздник был скромным по меркам села, но невероятно тёплым и душевным. Из города прибыли родители жениха – интеллигентные, немного сдержанные люди, которые с первых минут были покорены открытой, искренней душой невестки. Они увидели не деревенскую простушку, а умную, тактичную, удивительно светлую девушку, в глазах которой горел живой ум и доброта.
На свадьбу из города, как и обещала, приехала Ксения. Только одна, без мужа.
– Как хорошо, что ты здесь, со мной в такой день, – шепнула ей Евдокия, обнимая на пороге дома. – Жаль, что Николай не смог приехать.
– А я здесь, пожалуй, и останусь, – с горькой, усталой усмешкой ответила Ксения, и в её когда-то холодных глазах стояла глубокая, взрослая печаль. – А Коля… с Колей мы разошлись. Но это потом, не сейчас. Сейчас твой день. Иди к жениху, к гостям. Успеем ещё наговориться. Всё расскажу – и как из училища меня отчислили за прогулы, и как муж по другим, более «интересным» девицам бегал, а меня, деревенскую, скоро как обузу возненавидел.
Как один миг пролетели полгода после свадьбы. И вот уже Евдокия со Славой, как и планировали, собрали нехитрые пожитки в город. До этого они жили в своём маленьком учительском доме, и соседи только дивились, как ладно и тихо у них всё было, как они понимали друг друга с полуслова.
Молодые супруги уехали. Вячеслав поступил в аспирантуру и стал преподавать в политехническом институте. Евдокия же, с рекомендацией от Галины Семёновны, устроилась швеёй-мотористкой в одно из городских ателье. Первое время коллеги, городские модницы, смотрели на провинциалку свысока. Но вскоре вынуждены были признать: у этой девушки с веснушками и спокойной улыбкой – безупречный глазомер, феноменальная аккуратность и какое-то врождённое чувство стиля. Она не гналась за модой слепо, а умела адаптировать её для каждой конкретной клиентки, подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Через несколько лет Евдокия Вячеславовна, окончив вечерние курсы конструкторов, стала сначала мастером, а затем и заведующей тем самым ателье. У супругов родилась дочь, а через много лет – и внучка.
Надо сказать, что с годами Евдокия расцвела. Не внешне – черты её лица остались прежними. Но она научилась одеваться со вкусом, подчёркивая удобство и элегантность, а не броскость. Аккуратная стрижка, умело подобранные очки, которые делали её взгляд более выразительным, лёгкий, уместный макияж – всё это создавало образ уверенной, приятной, очень ухоженной женщины. Люди, общавшиеся с ней, даже не допускали мысли, что когда-то её могли называть некрасивой. В её присутствии чувствовали себя спокойно и хорошо. Однажды её юная внучка, зеркально красивая, как когда-то Мирослава и Ксения, пожаловалась бабушке, что носик у неё, мол, слишком курносый, и вообще, она не такая, как подруги с обложек.
– Ну и зря, голубушка, – весело ответила баба Дуня, как теперь звали её близкие. – Ты у меня – само очарование. Но я тебе всё равно расскажу одну историю. Как раз про красоту и про то, где она на самом деле живёт.
Девочка, раскрыв рот, слушала бабушку, глядя в её добрые, мудрые глаза, в которых светились целые миры пережитого. И она искренне, до слёз, удивлялась тому, что её самую прекрасную, самую родную на свете бабу Дуню, кто-то когда-то мог считать некрасивой.
—
Евдокия прожила долгую, насыщенную и по-настоящему счастливую жизнь рядом со своим Вячеславом. Они вырастили дочь, помогали растить внучку, и их дом всегда был полон warmth, книг, друзей и того особенного покоя, что рождается из взаимного уважения и глубокой любви. Она часто навещала родное Баренцево, родителей, а потом и их могилы, помогала сестре Мирославе, которая так больше и не вышла замуж, посвятив себя дочери Кате, ставшей, к удивлению многих, талантливым агрономом. Ксения, пожив немного у родителей, снова уехала в город, ещё дважды выходила замуж, но детей, как и глубокого счастья, так и не обрела, оставшись красивой, но одинокой женщиной с горьким привкусом несбывшихся грёз.
А в Баренцево ещё долго помнили некрасивую Варвару, ставшую уважаемой Евдокией Вячеславовной. Её история со временем превратилась в притчу, которую рассказывали молодым девчатам, слишком переживавшим о своей внешности. «Смотри не на лицо, а на руки да на сердце, – говорили старушки. – Помнишь Дуняшу Лужкову? Такой умелицы да такой счастливой доли ещё поискать. Красота – она, милая, не здесь, – прикладывали ладонь к щеке, – а здесь, – и касались груди. – И прорастает она, как диковинный цветок, только в душе светлой да в труде честном». И казалось, что сама жизнь, прошедшая через огонь войны и горечь потерь, подтверждала эту простую, вечную истину, вышивая её, как тончайшую, прочную нить, в полотно человеческих судеб.