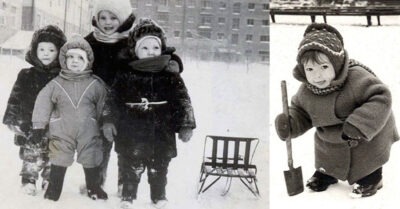1941 г. «Пусть лес тебя приберет, раз родился не ко времени!» — бросила она, сворачивая младенца в вонючую тряпку. В разгар войны, где выживание — уже подвиг, холодная и отчаявшаяся мать оставляет новорождённого сына в лесу

В ту ночь, когда мир замер в тревожном ожидании, а звезды казались холодными осколками льда на бархатном небосводе, в глухом молдавском селе, заросшем виноградной лозой и терновником, произошло тихое, почти беззвучное событие. Словно чувствуя, что ему здесь не рады, новорожденный мальчик почти не кричал. Он лежал за дверью старого сарая на мягком, как высокое желе, животе Агаты, лежал, покряхтывая, слушая, как шумно и прерывисто дышит роженица, его мать. Воздух был густым и тяжелым, пахнущим прелым сеном, пылью и железом. Агате он был не нужен, и решила она так, глядя в черную пустоту потолка, где в тенетах дремали пауки: скажу всем, что в родах не выжил. В лес отнесу, положу на муравейник. Сам виноват, что родился в такое время. Четверых до него родила — и хватит. Этих бы в войну прокормить! Кто ж знал, что все обернется именно так…
Когда объявили о вторжении, Агата была на восьмом месяце. В июле того же рокового года их тихую Молдавию накрыла волна оккупации. Что будет дальше? Ползли слухи о неслыханных зверствах, о голоде и пожарах… А она одна, муж ушёл добровольцем в самое пекло, а дети у неё мал мала меньше: старшей Вере девять и младшему три года. Куда ещё пятого? Не нужен он ей, этот тихий, хрупкий комочек жизни, нарушивший своим появлением и без того шаткое равновесие!
К детям Агата вообще относилась прагматично, без особой любви, как к какой-то неотъемлемой, но не очень приятной стороне бытия. Они рождались помимо её воли, и в её душе, огрубевшей от бесконечного труда и лишений, не пробуждалось по отношению к ним того безусловного инстинкта, о котором шептались соседки. Вот как поросята бегали у неё по двору или куры клевали зерно — приблизительно одинаковое было восприятие. Со всеми отпрысками Агата вела себя одинаково сухо, отстранённо и нередко показывала грубость, резкое слово и жесткую руку. Сердце её, казалось, было высечено из того же камня, что и жернова на мельнице.
И пятый к ней на голову… Агата скосила глаза на голенькое, хрупкое тельце ребёнка. Свет луны, хищный и серебристый, проникал сквозь широкие щели сарая, разрезая темноту на призрачные полосы. Они ложились фрагментами на то, что было внутри: на деревянные рукоятки лопат и вил, застывшие в углу, как безмолвные стражи; на грубую перегородку, за которой слышалось сонное квохтанье индюшек; на густую, старую паутину, скопившуюся по углам, напоминающую серые лохмотья забытой погребальной ткани.
Она лежала так до самого предрассветного часа, то проваливаясь в короткий, тяжёлый сон, наполненный обрывками пугающих образов, то просыпаясь от тихого кряхтения и слабых движений ребёнка, который был голоден и не сдавался, чувствуя животное тепло матери и её запах, единственное, что связывало его с этим огромным и враждебным миром. Он предпринимал беспокойные, слепые попытки найти заветный источник жизни, повинуясь чистому, древнему инстинкту, но был ещё слишком слаб и неопытен, чтобы понять, где именно нужно искать. Выдохшись, мальчик делал паузы и лежал на животе неподвижно, лишь тонкие пальчики слегка вздрагивали, но неистребимая, упрямая жажда бытия вновь и вновь заставляла его шевелиться. Агата ему не помогала, он был абсолютно ей безразличен, словно щепка, прибитая к её берегу бурным потоком судьбы.
Когда небо на востоке стало терять свою бархатную черноту, переливаясь в насыщенно-синий, почти фиолетовый цвет, и забрезжила тонкая, розовая полоска рассвета, Агата поднялась вместе с ребёнком. Спина мальчика была холодной, как речной камень, от утренней прохлады, и Агата машинально завернула его в старую, пропахшую потом и землёй тряпку, которая висела на перегородке. Она сделала это не из побуждений заботы, а лишь для того, чтобы спрятать младенца от случайных глаз, будто стыдливый, неприглядный сверток.
Она стояла на пороге сарая, глядя на темные, бездонные просторы леса, что синели за околицей, чувствуя слабость в ногах и странную, леденящую пустоту внутри. Что-то тёплое и липкое капало из неё на разбросанную под ногами солому, она знала, что это, куда без этого. Не было ни желания, ни сил смотреть вниз. Пора идти.
И она направилась туда, где судьба молчаливо ждала её сына — в глухую чащу, в царство мхов, корней и тишины. В её животе не было боли, только неприятная, тянущая тяжесть и огромная пустота, будто вынули какой-то важный камень из фундамента. Ребёнок, окутанный грубой материнской рукой, смотрел на неё мутным и бездонно доверчивым взглядом — совсем хрупкий, полностью беззащитный, пребывающий в полной, безраздельной власти Агаты.
— Спи! — приказала ему мать, и голос её прозвучал хрипло и чужо. — Нечего смотреть на меня!
Она знала, что поступает жестоко, но не чувствовала ни острых угрызений совести, ни страха перед незримым оком Бога. Это жизнь! И Агата сейчас была такой же, как сама жизнь, дарованная нам слепыми силами природы — суровой и безразличной, но не злой в человеческом понимании. Разве бывает злой природа, обрушивая на нас ураганные ветры, сметающие дома, наводнения, поглощающие поля, или вьюги, замораживающие путников? Разве злая она, когда земля содрогается в конвульсиях или солнце выжигает посевы? Нет. Природа просто поступает так, как нужно для сохранения хрупкого баланса, а мы, ничтожные и зависящие от неё создания, можем лишь уповать на её милость и подстраиваться под новые, подчас жестокие условия. Так была устроена и Агата, не умеющая жертвовать собой и любить по велению сердца, а не расчёта.
Долго бродить по лесу в поисках муравейника у Агаты не было ни времени, ни сил. Нужно вернуться домой, пока деревня не проснулась и не начал свой путь дым над печными трубами. Заметив, что в одном месте, у подножия старого дуба, более активно сновали жуки и муравьи, Агата решила оставить ребёнка здесь. Мальчик в любом случае долго не протянет. Она развернула тряпьё, в которое он был замотан, и положила его, совершенно голого, на колючую, холодную траву, усыпанную прошлогодней листвой. Ребёнок моментально заплакал, тихим, жалобным писком, и возмущённо задергал тонкими, как прутики, конечностями.
Она решительно развернулась и пошла прочь, не оглядываясь. Тихие крики мальчика быстро терялись, поглощались густой стеной леса, словно их и не было.
Младшие дети не заметили перемен в матери, но старшая Вера, девочка с глазами цвета незабудок и светлыми, как лён, волосами, поняла, что что-то не так. До обеда Агата чувствовала слабость, сказывалась и почти бессонная ночь, и недавние муки. Она давала Вере поручения по хозяйству, а сама в основном лежала на кровати, и видно было, что какая-то тёмная, навязчивая мысль грызёт её изнутри, не давая покоя. По просьбе матери Вера поднесла ей кружку с водой. Девочка заметила, что у мамы сильно покусаны в кровь губы, глаза впалые, будто вглубь черепа ушли, и живот под простыней не такой высокий и круглый, как ещё вчера.
— Мама, ты заболела?
— Ночью плохо спала, — уклончиво, резко сказала Агата.
— Из-за ребёночка? Опять мешал тебе?
— Какого ребёночка? — вспыхнула мать. — Нет никакого ребёночка, приснился он тебе!
— Да как же! — настаивала Вера, и в её голосе задрожали слёзы. — И папа ведь когда на войну уходил, разговаривал с ним, и ты сама говорила!
Агата резко замахнулась на дочь:
— Уйди, пока на выдала тебе! Ребёночка ей подавай! Не выжил он, ясно? Нет его больше. И смотри языком не мели по деревне, если кто будет спрашивать, я сама отвечу, а ты говори «не знаю». Поняла?
Мысли о новорожденном, однако, нет-нет, да возвращались к Агате, как назойливые мухи. Это была не жалость, а холодный, тоскливый страх за себя — вдруг мальчика кто-то найдёт, услышит, и начнутся вопросы, выяснения, позор? Ночью беспокойство достигло своего апогея, перейдя в тихую панику, и Агата решила, что на рассвете сходит проверить его, а заодно и спрятать поглубже, закопать, если придётся.
На следующее утро, когда роса ещё серебрила паутину в траве, Агата с каменным лицом и трепещущим сердцем пошла в лес. Она почти надеялась, что мальчик не пережил холод, голод и одиночество, а также ту невидимую работу, что проделали над ним ночные твари. Она не могла отогнать от себя мысли о нём, воображение рисовало то, что от него осталось, и картины эти пугали её, но она всё равно не считала себя преступницей. Её уверенность в том, что он не выжил, была почти абсолютной.
Найдя то самое место под дубом-великаном, Агата замедлила шаг, стараясь зачем-то ступать как можно тише, будто крадучись к самой себе. Затаив дыхание и почти не моргая, она подходила к нему, лежащему так уязвимо и безгласно на земле, из которой произрастал скудный покров травы, подходила к ребёнку, оставленному ею так жестоко и бездушно в первый же день своего рождения…
Рот мальчика был полуоткрыт, бледные губы посинели от ночного холода. Всё его тельце было усыпано укусами насекомых — они алели и вздувались, как мелкие бугорки, а некоторые букашки, чёрные и рыжие, продолжали по нему ползать, исследуя. Агата присела на корточки перед ним, и вдруг, сквозь оцепенение, поняла — слабая, едва заметная дрожь пробежала по крошечной груди. Ребёнок ещё дышит. Не думая, почти не осознавая своих действий, она взяла его, продрогшего насквозь и липкого, на руки. Мальчик не издал ни звука, но слабо шевельнулся, и это движение, это упрямое цепляние за жизнь поразило Агату, пробудив в ней что-то глубинное, забытое.
«Ну раз уж ты в таких условиях сутки выжил, — пронеслось в её голове с внезапной, грубой нежностью, — то войну точно переживёшь!» И она, почти рывком, засунула его к себе под платье, под тёплую, живую грудь.
Пока она шла обратно, пробираясь сквозь кустарник, мальчик стал заметно оживать, слабо тычась личиком в её кожу. Выйдя из леса на околицу, Агата присела на старый, замшелый пень и решила его покормить. Она просунула в его ротик сосок и нажала несколько раз — тёплое молоко тут же брызнуло ему в горло, часть полилась по синевато-бледной щеке. Быстро поняв, что нужно делать, а точнее, отдавшись всепобеждающему инстинкту, ребёнок начал жадно, но слабо сосать, и Агата помогала ему, сжимая грудь пальцами. По мере насыщения он креп с каждой минутой, и кожa его приобретала живой, нежный розовый цвет. И в этот миг Агата, к собственному удивлению, почувствовала смутную, грубую гордость: что произвела на свет такого крепкого, стойкого сына.
Когда она добралась до своего двора, уже вовсю разыгралось утро. Солнце, золотое и щедрое, пригревало землю, и пускались в пляс его лучи по серым заборам и соломенным крышам, по сочной июльской траве и тяжёлым, налитым соком гроздьям винограда. Дочь Вера была во дворе, рассыпала зерно перед индюшками и курами. Увидев мать, она замерла.
— Ну что? — сказала ей Агата, и в голосе её звучала странная смесь усталости и вызова. — Ты ещё хочешь братика?
— Я… я не знаю… — растерялась Вера и с недоумением посмотрела на руки матери, которые прижимали к груди какой-то скрытый сверток.
— А знать теперь поздно! Хотела? Плакала? Вот и держи!
Мать откинула край тряпки, показав ей личико сытого, уже спящего младенца.
— Выжил всё-таки, — сказала Агата, взглянув на девочку, которая с тихим трепетом подошла к ней. — Ну, держи его, раз так хотела. Расти его сама, мне он не нужен. Иди и запеленай, найди в сундуке пелёнки.
Вера растерялась, но в её светлых, широко раскрытых глазах зажглась не детская, серьёзная решимость. Она нежно, будто боясь раздавить, приняла младенца на руки, и в этот момент мальчик проснулся. Его тёмные, слипшиеся ресницы дрогнули, и он уставился на неё взглядом бездонным, беззащитным и отстранённым, конечно, он ещё ничего не понимал в этом мире.
— Я буду заботиться о нём, мама, — тихо, но твёрдо сказала Вера, и Агата, не найдя возражений, лишь хмыкнула и первой вошла в прохладную темноту дома.
Через час выкупанный и сытый мальчик спокойно лежал в старинной люльке, подвешенной к потолочной балке. Вера беспокоилась об укусах, которые явно причиняли ему дискомфорт — он иногда вздрагивал во сне. Мать поворчала и посоветовала ей приложить к воспалённым местам тонкие дольки сырой картошки. Братья и сёстры столпились вокруг, наблюдая с любопытством за её заботой. Они приняли малыша хоть и с удивлением, но без особого восторга. Ребёнок сразу же стал «Верушкиным».
— Как мы его назовём? — спросила у мамы Вера, качая люльку.
— Ай, как хочешь, мне всё равно, — отмахнулась Агата.
Вера ещё раз оценивающе посмотрела на серьёзное, уже успокоившееся личико брата.
— Он будет Иваном. Крепкое, хорошее имя.
Старший из братишек тут же начал приплясывать:
— Ваня, Ваня, Иван, сиди дома, не гуляй!..
— Тихо! — притопнула на него Вера, но глаза её светились. — Не мешай ему спать.
Она склонилась над люлькой и поправила сбившуюся простынку. Её светлое, тонкое лицо озарилось тёплой, безмерно нежной улыбкой. Вера была девочкой удивительной, врождённой доброты, и другие дети, чувствуя это, тянулись к ней, как ростки к солнцу. Она для каждого могла найти доброе слово, любого могла утешить и понять. Все дети семьи, в том числе и маленький Иван, пошли внешностью в мать — типичную молдаванку с чёрными, густыми волосами, жгучими тёмными глазами и крепким, приземистым телом. Руки их матери тоже не отличались изяществом: широкая ладонь, короткие, сильные пальцы — то, что нужно для тяжёлого крестьянского труда от зари до зари. И только Вера была другая, похожая на ушедшего на фронт отца: высокая, сухощавая, какая-то слишком хрупкая и нежная на фоне других, с мягкими, словно размытыми акварелью чертами, и волосы у неё были необычного цвета — белесые, с солнечной рыжинкой, тоже папины.
Ивана она обожала с той первой минуты. Какое родство может почувствовать девятилетняя девочка к маленькому, сморщенному новорожденному, ничего не смыслящему в этом мире? А она ощутила. И стала для него всем: и сестрой, и матерью, и ангелом-хранителем. Она берегла Ваню и заботилась о нём так трепетно и самоотверженно, что этот мальчик, родившийся в самом начале всеобщего горя, ничего ужасного с тех лет не запомнил. Война прошла где-то мимо, как далёкий, неясный гром за холмами. Возможно, той деревне, в которой они жили, просто повезло с расположением… Все выжили. Спустя год после окончания войны отец тоже вернулся домой, седой и молчаливый, с орденом на груди.
От родной матери Иван никогда не знал ласки. Он рос, а она была рядом, но между ними лежала непроходимая пропасть молчания и отчуждения. Он даже не задумывался в детстве над тем, что мать должна любить своих детей. Агата была тем человеком, который раздавал приказы, ругал их и мог ударить, приговаривая, что лучше б она их не рожала вовсе.
— Лучше бы я тебя в лесу оставила! — гремел её голос при любой его провинности или просто когда ей было недовольство жизнью.
Эту фразу Иван слышал лет с пяти и до первых седин, вплоть до того дня, когда Агаты не стало. Она, словно находя в этом perverse утешение, любила припоминать ему ту ночь в лесу, и преподносила всё так, словно оказала ему, недостойному, огромную, незаслуженную милость. Иван рос с глубокой, выжженной внутри мыслью о том, что он для матери — ничтожество, лишний рот, нахлебник… О, если бы не Вера…
— Ты у меня самый любимый, — шептала она ему, укрывая одеялом. — Не слушай её. Родной мой, замечательный, умный и добрый братишка. Кто у меня самый лучший друг, знаешь?
— Я? — жался к ней Иван, вдыхая родной запах хлеба и полевых трав.
— Ну конечно! На всю жизнь, на все времена — самый лучший…
Когда Ване было семнадцать, Вера ушла из семьи — её выдали замуж, не спрашивая. В мужья ей достался угрюмый, вспыльчивый человек с тяжёлыми руками, и Вера очень боялась его. Иван, уже подростком, часто замечал на её руках, шее синяки, прикрытые платком. Из светлой, открытой, певучей девушки Вера превратилась в замкнутую, вечно вздрагивающую от резких звуков женщину, в глазах которой жила тихая печаль.
— Я убью его ради тебя! — сжимал тогда кулаки Иван, пряча от сестры наполненные слезами ярости глаза. Его переполнял бессильный, жгучий гнев.
Вера запрещала ему даже приближаться к мужу, умоляла не лезть. Что мог поделать этот тощий мальчик с сильным, коренастым мужчиной, который укладывал Веру на пол одним ударом сжатой ладони?
Но Иван вырос, возмужал, окреп в трудах. И подрастали у Веры дети — сын и дочь. Вернувшись из армии, Иван сразу женился на тихой, доброй девушке и построил дом на одной улице с сестрой, чтобы быть ближе. В тот год, когда у Ивана родился собственный сын, случилось страшное, непоправимое горе — муж в пьяной ярости избил Веру до смерти. Его забрали, осудили, а Верова свекровь, худая и злая старуха, стала выгонять внуков из дома, причитая, что кормить их нечем. Безо всяких раздумий, Иван забрал племянников к себе. Он смотрел в их испуганные, полные слёз глаза и видел в них Веру.
Они были ещё совсем детьми — девочке пять лет и мальчику семь, — когда Иван принял их, как родных, в свой уже не маленький дом. Было тяжело, туго с хлебом, но жили дружно, всем миром. Помимо этих двоих, Иван с женой родили ещё троих своих ребятишек.
Агата детей Ивана не признавала, называла их за глаза «нахлебниками» и «чужими отродьями». Она вычеркнула сына из своей жизни, но по-своему, своеобразно: если надо было поправить плетень, принести воды или нарубить дров, а осталась она совершенно одна, и выросли её старшие дети, то первым, к кому Агата шла за помощью, был Иван. И не дай Бог ему случалось ответить, что сегодня некогда, что работа в колхозе или свои заботы.
— Уж лучше бы я тебя в лесу оставила, неблагодарного! — неслось ему вдогонку. — Лучше бы тебя муравьи там дочиста обглодали!
Свекровь Веры, та самая старуха, иногда, по настроению, приглашала детей к себе в гости, суя им куски сахара или сухие лепёшки. Домой ребята возвращались поникшими и какими-то чужими, на расспросы отвечали нехотя, односложно. Иногда они просили у Ивана что-то невозможное — новую обувь, когда вся семья ходила в латках, или особую игрушку, — и тогда, получая отказ, ворчали обидное:
— Ну конечно, мы же тебе не родные…
Иван много, до седьмого пота, работал, и у него не было времени, да и душевного такта, чтобы копаться в истоках этих обидных, несправедливых фраз. Он думал, махнув рукой, что это просто возрастное, детская глупость, пройдёт.
— Вырастут и поймут, заберут свои слова обратно, не переживай, — успокаивал он жену, которая видела больше и переживала сильнее.
Когда старшему мальчику, племяннику, исполнилось пятнадцать, дети Веры неожиданно, в один день, ушли жить к бабушке. Иван вернулся с дальнего покоса и обнаружил, что их попросту нет! И нехитрые пожитки их исчезли!
Оказалось, мальчишка уже устроился подрабатывать в колхоз, девочка день-деньской помогала бабке по хозяйству, копалась в огороде. Старуха, оказывается, годами ждала того часа, когда внуки подрастут и станут полноценной рабочей силой. Она исподволь, капля за каплей, травила их души, настраивала против «дядюшки», который, ничего не подозревая, растил их как своих, делил с ними последнюю краюху. Теперь же они стали ей нужны — самой управляться уже тяжело, годы брали своё. Вот и пригодилась пара молодых, послушных рук.
Они жили на одной улице, буквально в нескольких домах, но дети здоровались с Иваном так, словно видели его впервые, холодно и отстранённо.
— Как же так, Петя? Почему? — пытался однажды выяснить Иван, остановив повзрослевшего племянника.
— Бабушка нам родная, ей надо помогать, — отвечал тот, глядя куда-то в сторону. — А ты нам кто?
Нет, они не стали продолжением Веры, его любимой, светлой сестры, а Иван растил их именно с этой надеждой — сохранить в них её частичку. Все те годы, всю ту любовь и заботу, что он им посвятил, они вычеркнули из памяти, будто этого и не было… И Иван был вычеркнут. Для почти всей родни он так и остался навсегда «лишним», так уж несправедливо повелось с той самой, давней ночи.
«Уж лучше бы я тебя в лесу оставила!» — гремел в памяти голос практичной, чёрствой матери.
«А ты нам кто?» — вопрошали глупые, ослеплённые чужим злом дети его сестры.
И Иван принимал всё это. Молча. Иногда он ловил себя на горькой мысли, что жил бы спокойнее, легче, если бы не это его дурацкое, непрактичное, слишком доброе сердце, доставшееся, должно быть, от сестры. Но жизнь — она течёт, как полноводная река, и всё в ней подвластно времени, этому великому и беспристрастному судье. Годы медленно, неуклонно расставляют все поступки, все слова по их заслуженным местам. Зло, посеянное кем бы то ни было, навсегда остаётся чёрным пятном в памяти поколений, каковыми бы ни были его причины и оправдания. А что касается доброты, самоотверженности и истинного человеческого благородства… Они, подобные зёрнам, упавшим в добрую почву, дают свои всходы. Не сразу, не для тех, кто рядом, но обязательно — для тех, кто придёт после.
Внуки и правнуки, которых у Ивана было много, вспоминают своего дедушку, прадедушку как человека исключительной душевной мягкости, честности и неиссякаемой трудолюбивой силы. Он для них — идеал, путеводная звезда, о которой рассказывают своим детям. Помнят они и тётю Веру, её светлый образ, сохранённый в семейных преданиях. А вот Агату вспоминают с содроганием и тихим стыдом, как тёмную страницу в родословной, как, впрочем, и тех самых детей Веры, чью «чёрную благодарность» и слепоту они и по сей день не могут понять и простить. А сам Иван, прожив долгую, трудную, но честную жизнь, словно бы и не ждал никакой благодарности. Он просто сеял добро, потому что иначе не мог, потому что так научила его та самая девочка с льняными волосами, когда-то принявшая его, остывшего и искусанного, из рук бездушной судьбы. И в этом бескорыстном сеянии, в самой его сути, и заключалась та тихая, негромкая победа света над тьмой, которая переживает века.