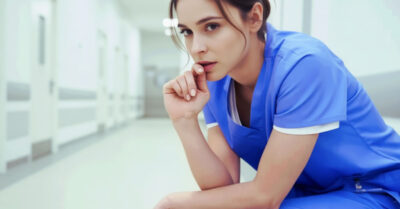Она всю жизнь работала до кровавых мозолей и любила так, что прощала всё — даже ту, что выросла эгоисткой. А перед смертью оставила внучке не деньги, а родовую икону с жемчугом, похожим на застывшие слёзы. Но дочь иконы не сберегла — содрала жемчуг, чтобы сделать бусы, и в ту же ночь эти бусы стали её смертным ожерельем

Таисия Петровна родом из глухой тверской деревни покинула отчий дом в шестнадцать лет, сбежав на городской огни. Было это в начале пятидесятых. Девушка она была собой невидная: тихая, словно мышка, с вечно потупленным взором и тонкими, бесцветными волосами, вечно убранными под косынку. На фабрике «Красный Октябрь», где она встала за ткацкий станок, её за прилежание прозвали «монашкой».
Может, оттого и не сложилось у нее бабьего счастья, не задержался ни один ухажер возле такой скромницы. Подруги-ткачихи, шумные и бойкие, одна за другой выскакивали замуж, а Таисия всё читала книжки в общежитии да штопала казенные простыни. Но в работе она была неутомима: план перевыполняла, станки ее слушались, и портрет её висел на доске почета. К тридцати годам, возрасту по тем меркам солидному, она так и осталась в старых девах.
— Брось ты, Таисия, киснуть, — советовали сердобольные подруги по цеху, — ты баба здоровая, роди сама. Государство матерей-одиночек не бросает, а фабрика наша и комнату выбьет. Вон, новые дома скоро сдадут, глядишь, и квартиру дадут.
Таисия Петровна краснела до корней волос, отмахивалась, но по ночам, лежа на жесткой койке, уже не книжки читала, а закрывала глаза и представляла детскую коляску, занавешенную марлей от мух, и пухлую ручку, сжимающую погремушку. Сердце ее замирало от сладкой, запретной надежды.
Случай представился той же осенью. За ударный труд профком выписал ей путевку в сочинский санаторий «Металлург». Для Таисии, никогда не видевшей моря, это было событие вселенского масштаба.
На отдыхе, как водится, люди крутят курортные романы. А Таисия, оглушенная шумом прибоя, ослепленная южным солнцем и запахом магнолий, впервые в жизни расцвела. Улыбка не сходила с ее побледневшего за зиму лица. И на эту улыбку, как мотылек на огонек, клюнул один отдыхающий — плотный, молчаливый мужчина из-под Иркутска, лесосплавщик по имени Глеб.
Таисия не спрашивала, есть ли у него кто в Сибири. Не смела. Двадцать один день — разве это срок для серьезных разговоров? Они гуляли по набережной, смотрели в кино «Верные друзья», а по вечерам уходили на дальнюю гальку, где никого не было, и купались до заката, когда море становилось теплым, как парное молоко, а небо — лиловым.
Все случилось там, на теплых камнях, под крик чаек. А через месяц, уже в родном городе, Таисия поняла: она станет матерью.
Поначалу она боялась поверить. Но когда платья стали тесны в талии, подруги по общежитию всё поняли. Никто не осудил. Наоборот, гладили по спине, подсовывали легкую работу. Когда Таисия ушла в декрет, ей и правда дали отдельную комнатушку в семейном общежитии.
Родилась девочка в марте, под звон капели. Таисия, начитавшись зарубежной классики, назвала её необычно — Доротеей. Дора.
Деревенские родители, узнав, и имени не одобрили, и самого факта внебрачного ребенка. Мать прислала гневное письмо, отец и вовсе велел забыть к ним дорогу. Стыдно им было перед соседями.
Но фабричное начальство сдержало слово. Когда Доре исполнилось три, и фабрика сдала новый хрущевский дом, Таисии выделили однокомнатную квартиру на первом этаже.
Всю жизнь она проработала на «Красном Октябре», оправдывая доверие, и искренне считала себя счастливой. Дочь она боготворила. Души не чаяла. Позволяла всё, что та ни попросит.
Соседи, глядя на это, качали головами:
— Таисия, что ж ты с девкой делаешь? Она же тебе на шею сядет! Ни в школе учиться, ни по дому помочь — одно «дай» да «купи». Разве ж это воспитание?
— Одна она у меня отрада, — отмахивалась Таисия Петровна, и глаза ее становились колючими. — Не ваше дело. Своих воспитывайте.
Видно, глухая обида на мир, который не дал ей женского счастья, сидела в ней глубоко. Зависть к семейным соседкам, пусть даже подсознательная, точила душу. И характер ее, и без того неласковый, превратился в замкнутый и нелюдимый. Она видела, что Дора растет эгоисткой, но перебороть свою слепую любовь не могла.
Итог был предсказуем. Едва Доротея стала подростком, она пустилась во все тяжкие. Во дворе её прозвали «Дорка-помойка». Таисия Петровна, услышав это прозвище, перестала с соседями вовсе здороваться, проходила мимо, словно чужая. А Дора требовала денег на наряды, прогуливала школу и после восьмого класса с радостью покинула ее, окунувшись в уличную жизнь с парнями, вином и папиросами «Прима».
Не раз Таисия Петровна, отчаявшись, искала дочь по ночам, находила ее в подворотнях, пьяную, с размазанной помадой. Пыталась увещевать, уговаривать, но было поздно. Сердце матери разрывалось от боли.
Родила Дора, едва исполнилось семнадцать. Девочку, в угоду старикам, которых так и не простила Таисия, назвали Анной. Но дед с бабкой и слышать не хотели о правнучке, считая Дору окончательно пропащей.
Таисия Петровна взвалила на себя новый крест. Работала на вредном производстве, брала смены, чтобы поднять Анютку. Силы были уже не те, спина болела, ноги гудели. А Дора, оправившись от родов, быстро вернулась к прежней жизни, и дочь была ей лишь обузой.
Соседи, глядя на мучения Таисии, сменили гнев на милость. Женщины приносили одежду, из которой выросли их дети, передавали продукты. Таисия, стиснув зубы, принимала помощь, хоть и было ей горько и стыдно за свою прежнюю гордыню.
На пенсию она вышла по вредности рано, лет в пятьдесят. Анютка пошла в первый класс. Бабушка водила ее за руку в школу, учила с ней буквы, проверяла прописи, старалась, чтобы девочка не чувствовала себя хуже других.
Доре пришлось идти работать — кавалеры повывелись, а собутыльники то и дело попадали в тюрьму. Работала она то уборщицей в кинотеатре, то грузчицей в овощном магазине, но долго нигде не держалась: проклятый зеленый змий выгонял с работы быстрее, чем начальство успевало узнать ее имя.
Таисия Петровна стеснялась дочери так, что начала болеть от стыда. Но держалась из последних сил, боясь лишь одного: что Аню заберут в детдом. Это была ее последняя, главная миссия в жизни.
— И чего ты, Таисия, такая несчастная? — вздыхали соседки. — Всю жизнь горбатилась, а счастья не видала. С дочерью горе, теперь внучку тянешь.
Таисия Петровна молча вытирала слезы и молилась по ночам перед старой иконой, прося у Бога лишь одного: дожить до того часа, когда Аня встанет на ноги. Дору они с Аней видели редко — та пропадала у очередных сожителей. Она стала притчей во языцех, главной сплетней двора.
Таисия старалась лишний раз не выходить из дома, ходила с опущенной головой, в старом платке. Но Анюта росла умницей. Она жалела бабушку, мыла полы, готовила незамысловатую еду, старалась хорошо учиться. Жили они скромно, на одну бабушкину пенсию, считая каждую копейку. Но школа помогала: то форму подарят, то портфель к первому сентября. Соседи по-прежнему подкармливали, видели же, как тает старуха.
Единственным настоящим сокровищем в доме была старинная икона Казанской Божьей Матери в серебряном с позолотой окладе. Вокруг нимба Богородицы шла тонкая вязь из мелкого, размером с маковое зернышко, речного жемчуга. Жемчуг со временем потускнел, но в глубине его угадывался перламутровый, теплый свет.
Говорили, что эту икону перед смертью прислала Таисии её родная бабка, та, что в деревне оставалась. Видно, на старости лет совесть замучила старуху, что отвернулись они от Таисии, не помогли, и жизнь её так горько сложилась.
Таисия Петровна таяла месяц за месяцем. В больницу идти отказывалась. Боялась оставить квартиру без присмотра. Знала: стоит ей уехать, явится Дора и вынесет всё, до последней тряпки. А ей было жалко не мебель казенную, а то, что дочь оберет родную дочь, Анютку. Особенно берегла она икону.
— Бабушка, а она дорогая? — как-то спросила Аня, разглядывая жемчуг.
— Не в деньгах счастье, Аня, — ответила Таисия Петровна. — Иконы не продают. Она наша, родовая. Мне её бабка моя, царствие ей небесное, с наказом передала. Видно, грех свой передо мной замолить хотела. Ты её береги, Аня. Когда меня не станет, она тебе защитой будет. А я скоро уйду. Ты не плачь, а то мне там покоя не будет. Живи достойно. Не как мать твоя. Это я во всем виновата — не воспитала. Прости меня, доченька.
Аня закончила училище, выучилась на повара-кондитера. Ее взяли в заводскую столовую, и она сияла от счастья. Бабушка тоже радовалась: внучка всегда будет при куске хлеба.
В то утро Аня ушла на работу, а Таисия Петровна осталась дома. Вернулась девушка вечером и увидела, что бабушка тихо отошла во сне. Лежала она с умиротворенным лицом, и легкая, чуть заметная улыбка застыла на ее губах.
Пришла Дора. После похорон, едва Аня ушла на смену, мать вынесла из дома икону, ту самую, которую так берегла бабушка.
Аня, вернувшись, увидела пустое место в красном углу, вздохнула и смахнула слезу. Что она могла поделать? Мать — такая же наследница.
Дора, конечно, икону продала. И не просто продала — осквернила. Содрала с оклада жемчуг, нанизала его на суровую нитку, сделала бусы. Дорого продать не смогла — ломбарды проверяли вещи, а на рынке ей дали гроши. Зато бусы пришлись ей по душе. Вертелась перед зеркалом в своей прокуренной комнате, примеряла, любовалась. Кавалеров у нее уже не было, пила она одна или с такой же подругой-дворничихой, которая гнала самогон.
Через месяц после похорон Таисии Петровны случилось новое горе. Дора с подругой неделю гуляли, пропивая деньги, вырученные за икону и прочее барахло. Пили дешевую сивуху.
Утром подруга с трудом разлепила глаза, чтобы идти на работу метлой махать. Глянула на Дору, а та не дышит. Лежит на спине, лицо синюшное, а на шее — жемчужные бусы, глубоко впившиеся в кожу. Видно, во сне нитка перекрутилась, затянулась, как удавка, и захлебнулась она собственным ожерельем. Синий след на шее так и остался.
Горько плакала Аня. Осталась она совсем одна. Сорок дней по бабушке не прошло, как мать схоронила.
Но время лечит. Аня взяла себя в руки. Работала она в столовке, старалась. Оттаяла душой.
— Гляди-ка, Анька-то наша похорошела как, — зашептались соседи. — Кровь с молоком!
И правда, отступило горе, расцвела девушка. Румянец заиграл на щеках, фигура округлилась, в глазах появился свет. Вскоре она вышла замуж за водителя, что развозил продукты по их столовым, — тихого, серьезного парня по имени Егор. Молодые сделали в квартире ремонт, купили мебель, зажили душа в душу.
Через два года Аня родила сына, Сашку, а еще через два — второго, Пашку. Дом стал полной чашей. Аня оказалась удивительной хозяйкой и матерью — чистюлей, каких поискать.
Самое главное — она нашла в себе силы помириться с деревенской родней. Съездила к деду с бабкой (материным отцу и матери), простила их. Старики, видя такую внучку, растаяли. И Егоровы родители души не чаяли в снохе — простой, работящей, ласковой, совсем не похожей на её покойную мать. Аня старалась при людях не вспоминать о матери, стеснялась.
Но по воскресеньям она неизменно ходила в небольшую церковь, что стояла недалеко от дома. Ставила свечи за упокой рабы Божьей Таисии и рабы Божьей Доротеи, за здравие Егора и ребятишек. И подолгу, от чистого сердца, молилась перед образом Богородицы.
Сыновья росли помощниками.
— Твои-то орлы, Аня, все в тебя — работяги, — говорили соседи.
— Это они в бабушку нашу, в Таисию Петровну, — отвечала Аня, и глаза ее теплели. — Она у нас передовиком была, вся в грамотах и благодарностях. И вазочка хрустальная осталась с тех времен. Она трудяга была. Царствие ей небесное. Если б не она, не знаю, что бы со мной стало. И вам, людям добрым, низкий поклон за помощь.
Старые соседи, свидетели той горькой и долгой истории, обнимали Аню, и на душе у них становилось светло и покойно. Круг добра, замкнувшийся на Таисии Петровне, разорванный Дорой, снова сомкнулся в её внучке.
Однажды вечером, уложив детей, Аня сидела на кухне с Егором.
— Знаешь, — сказала она задумчиво, — я маму не помню почти. Только бабушку. И тот день, когда она умерла, и мама икону унесла. Я тогда не знала, что делать. А потом, когда маму нашли… С этим жемчугом… Мне бабушкин голос шепнул: «Не суди». И я не сужу. Маму мне жалко. Она ведь тоже по-своему несчастная была.
Егор молча погладил ее по руке.
— Я в храме, когда молюсь за них, иногда думаю, — продолжала Аня. — Бабушка говорила: икона — защита. А мама жемчуг сняла. И он ее… словно бы и защитил. От дальнейшей-то жизни, от пропащей. Забрал к себе. Жемчуг-то на иконе — это слезы Богородицы. Значит, Она и маму мою пожалела, забрала, чтоб не мучилась больше.
— Мудрая ты у меня, — улыбнулся Егор.
— Это бабушка меня такой сделала, — ответила Аня. — Она меня добру научила. И прощать научила.
В комнате завозился и заплакал младший. Аня встала, поправила платок на плечах и пошла к сыну, легкая и спокойная, неся в себе свет, зажженный когда-то тихой, некрасивой, несчастной и такой сильной женщиной. И в том свете не было места горечи — только тихая благодарность за всё, что было и что прошло.