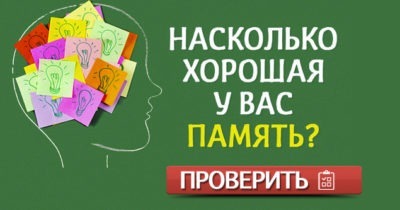1980-ый. Он врал всегда и всем: про козла на дереве, про закрытый универмаг, даже про смерть собственной жены, чтобы накормили блинами. Но когда ночью случилось несчастье, именно этому фантазёру никто не поверил

Посёлок Горные Ключи раскинулся на пологом склоне у подножия невысокого, поросшего сосняком хребта. Здесь всё было своим: люди знали друг друга не то что в лицо — они знали, какой стороной чья калитка открывается, чей петух по утрам орёт заливистее и у кого капуста в этом году уродилась на славу. И в этой прозрачной, как родниковая вода, жизни жил человек, которого считали главным местным чудом и наказанием одновременно.
Ефим Капитонович Луков, мужчина сорока пяти лет, с копной рыжеватых волос, вечно торчащих в разные стороны, и хитроватым прищуром серых глаз, был фигурой легендарной. В народе его называли просто — Лукá. За глаза, разумеется. Лука обладал редчайшим даром: он врал. Врал много, виртуозно, с таким неподражаемым выражением лица, что ему верили даже тогда, когда ложь была очевидной. Он врал не из корысти, не ради выгоды — это была внутренняя потребность, способ существования. Мир в его голове преломлялся сквозь призму вымысла, становясь ярче, интереснее и драматичнее, чем на самом деле.
Жена его, Клавдия Степановна, женщина дородная, властная и глубоко верующая, давно махнула на проделки мужа рукой. Она относилась к его фантазиям как к неизбежному злу, вроде комаров в июне или осенней распутицы. Иногда, впрочем, её терпение лопалось, и тогда Лука получал увесистой скалкой по спине, после чего на пару дней затихал, становясь подозрительно тихим и покладистым. Но потом механизм запускался вновь.
Неподалёку от Луки, через два дома, жила Пелагея Васильевна Ветрова. Тридцатидвухлетняя вдова с двумя мальчишками, погодками, она перебралась в Горные Ключи года три назад, после смерти мужа-шахтёра. Пелагея была статной, ладно скроенной женщиной с копной выбеленных перекисью кудряшек, быстрыми карими глазами и лёгкой, чуть развязной улыбкой. Работала она в местной пекарне, и вся мужская часть посёлка сходилась во мнении, что лучше Пелагеиных пирожков с ливером нет ничего на свете. Сама она к мужчинам была строга: пофлиртовать — да, но не более. Слишком свежа была рана от потери, слишком велик страх снова привязаться к кому-то сердцем.
В то утро последний автобус из райцентра уехал, оставив после себя только облачко сизого дыма. Лука стоял у калитки Пелагеи, одёргивая видавшую виды клетчатую рубаху. Он решительно откинул щеколду.
— Принимай, Пелагея Васильевна, гостя незваного, да не простого, а с чистой душой и добрыми намерениями! — провозгласил он, входя во двор. — А про Клавдию можешь голову не ломать, не помеха она теперь. Всё честь по чести.
Пелагея возилась в сарае, перебирая прошлогоднюю картошку. Услышав знакомый голос, она выпрямилась, отряхнула с цветного халата соломенную труху и вышла на свет.
— Ефим? Ты чего это спозаранку? — удивилась она, щурясь от солнца.
— Как это чего? — Лука картинно развёл руками, отчего его кудряшки смешно подпрыгнули. — А кто мне намедни у колонки говорил: «Эх, Ефим Капитоныч, кабы не супруга ваша, напекла б я вам блинов с пылу с жару! Вы таких сроду не едали». Говорила? Говорила. И улыбалась так… зазывно. Ну, вот я и тут.
— Так то я так… — смешалась Пелагея, но природное кокетство взяло верх, и она кокетливо поправила волосы. — А что ты про Клавдию-то сказал, когда вошёл? Не тронет, мол?
Лука нахмурил брови, изображая глубокую скорбь.
— А то и сказал. Можешь не опасаться. Не до тебя ей теперь.
— Неужто… разбежались? — ахнула Пелагея, прижимая руки к груди.
— Хуже, Пелагеюшка, хуже… Разошлись мы с ней, да не по своей воле. Тяжело быть рядом, когда человек… того… к Господу отходит раньше срока.
— Да ты что ж это! — Пелагея попятилась, лицо её вытянулось, а в глазах мелькнул животный ужас, смешанный с любопытством. — Клавдия-то? Да я её третьего дня у сельпо видала, ядрёная такая, здоровее меня в два раза! Господь-то, выходит, и сильных забирает…
Информация о внезапной кончине Клавдии, которая всегда казалась воплощением крепости и здравомыслия, поразила Пелагею до глубины души. Она шагнула к Луке и, проявив неожиданную нежность, обняла его за плечи. Лука обмяк, прижавшись к ней, и Пелагея почувствовала, как он мелко дрожит. «Бедолага, сейчас разрыдается», — подумала она.
— Пойдём, Ефим, пойдём в дом, — засуетилась она. — На веранде прохладно, а то упаси Бог, дурно станет. У меня вишнёвка прошлогодняя есть. Помянем рабу Божью Клавдию.
— Угу, — только и смог выдавить из себя Лука, шмыгнув носом.
У двери он вдруг замер, отдёрнув руку от ручки.
— А дверь-то у тебя, Пелагея, перекосило. Вишь, низом за порог цепляет. Петли разболтались. Подтянуть бы.
— Да что ты, Ефим, какие петли! — всплеснула руками Пелагея, пытаясь увлечь его внутрь. — Мужика какого попрошу. Это всё пацаны мои — носятся как угорелые, хлопают, а младший и вовсе удумал на ней раскачиваться.
— Так чем я не мужик? — Лука обернулся, в его глазах загорелся деловой интерес. — Или я, по-твоему, уже и гвоздя забить не способен?
— Способен, способен, ещё как способен! — закивала Пелагея. — Да горе-то какое… Не до того. Проходи, садись.
Она усадила его на кухонный диванчик, подложив для мягкости вышитую подушечку, и заметалась по кухне в поисках заветной бутылки. Руки её дрожали, всё валилось из рук. Наконец, из недр буфета была извлечена бутылка тёмного стекла с мутноватой рубиновой жидкостью.
Наскоро Пелагея нарезала всё, что было: домашней брынзы, зелёного лука с грядки, выудила из банки пару хрустящих огурцов и, подумав, добавила варёное яйцо. Скромный вышел стол, но что поделать — одна с двумя детьми.
— Ну… — Пелагея подняла свою рюмку. — Земля пухом Клавдии Степановне. Хорошая была женщина, богомольная.
Лука потянулся чокнуться, но Пелагея отдёрнула руку.
— Ты что, Ефим! Не чокаются по усопшим!
Лука молча опрокинул рюмку и с хрустом закусил огурцом.
Тут из комнаты выглянули двое мальчишек: старший, восьмилетний Пашка, и младший, пятилетний Витёк. Они уставились на нечастого гостя во все глаза. Лука попытался им подмигнуть, скорчил рожу, но дети лишь теснее прижались друг к другу. Своих у него не было, Клавдия детей иметь не могла, и с чужими он всегда чувствовал себя неловко.
— Брысь отсюда, мелюзга! — прикрикнула на них Пелагея. — На улицу идите, вон в песочнице играйте!
— Не гони ты их, — мягко остановил её Лука. — Цветы жизни.
— Ой, да я с любовью, — отмахнулась Пелагея, чувствуя, как тёплая волна от выпитого разливается по телу. — А скажи, Ефим… Как она… Клавдия-то… того? И когда?
Она перекрестилась.
Лука помрачнел. Его лицо, секунду назад расслабленное и довольное, вновь собралось в скорбную маску. Он посмотрел на Пелагею долгим, тяжёлым взглядом. Она и вправду была хороша: румяная, с искоркой в глазах, за которую мужики на неё и заглядывались.
— Да как… — начал он глухо. — Позавчерась утром проснулся я, ещё и петухи не пели. Четырёх, может, не было. Глядь, а Клавдия моя… рядом лежит, тёплая ещё… а душа уж отлетела. Тихо так, во сне.
— О-ох… — Пелагея даже зажмурилась, отшатнувшись. — Налей-ка ещё!
Они выпили ещё по одной, потом по третьей. Пелагея, непривычная к спиртному, быстро захмелела. Речь её стала вязкой, а мысли путаными.
— А как же ты, Ефим, на работу на следующий день пошёл? — вдруг осенило её. — И молчок? Никому не сказал?
— В шоке был, — убеждённо произнёс Лука, четко выговаривая каждый слог. — В ступоре. Сам не свой ходил.
Они вспоминали Клавдию, находя в ней всё новые и новые достоинства.
— Строгая была, — вздыхала Пелагея. — Меня, оно конечно, не жаловала. Быстро на расправу, да. Но вера в ней какая была! Искренняя! Царствие ей Небесное!
Пелагея даже всплакнула, утирая слёзы краем халата. Она вспомнила своего покойного мужа, и ей стало до слёз жаль и себя, и Луку.
— Ефим! А ведь я же тебе блины обещала! — спохватилась она.
— Обещала, — оживился Лука.
— Ты иди в горницу, приляг на диван, а я мигом. Полчаса — и первый блин готов!
— Ладно, — согласно кивнул Лука. — Спешить мне теперь и правда некуда.
Оставшись один в горнице, Лука огляделся. Глаз его, намётанный на домашнее хозяйство, сразу выхватил недостатки: криво висящая гардина на окне, шаткий детский стульчик, щель в половице. У себя дома он годами не замечал, что покосился забор или скрипит крыльцо. А здесь, у чужого человека, всё бросалось в глаза.
— Пелагея! — крикнул он. — А где у тебя инструмент?
— В прихожей, в комоде! — донеслось с кухни. — А на что тебе?
— Да так… Мысли дурные разогнать работой, — отозвался Лука, уже роясь в ящике.
Вскоре по дому разнёсся деловитый стук молотка, скрип отвёртки, довольное покряхтывание. Лука подкрутил петли на входной двери, выровнял гардину, подбил стульчик и даже нашёл в чулане старую москитную сетку, которую приладил на окно в детской.
На кухне уже вовсю шкворчало на сковороде, разносился умопомрачительный дух сдобы и топлёного масла. Пелагея поставила перед Лукой гору кружевных блинов, масленых, румяных, с хрустящими краешками. Он накинулся на них со сметаной и вишнёвым вареньем, наворачивая за обе щеки. Насытившись, он разомлел, стал похож на сытого, довольно жмурящегося кота.
— Ну, бывай, Пелагея, — поднялся он из-за стола. — Спасибо за хлеб-соль.
— Погоди, Ефим, я с тобой! — засуетилась Пелагея, натягивая босоножки. — Надо же похлопотать… омыть, обрядить Клавдию… Это бабье дело.
— Да не надо, — мягко, но твёрдо остановил её Лука. — Сам управлюсь. Не тревожься. Вот Клавдия домой воротится, тогда уж и начнутся хлопоты.
— К-какая Клавдия? — Пелагея замерла, не успев просунуть ногу в ремешок. — Ты о чём, Ефим? Тронулся ты, что ли, с горя?
Она смотрела на него с ужасом. Холодок пробежал по её спине.
— Ну, жена моя, Клавдия, — терпеливо пояснил Лука. — Воротится и порядок наведёт. А ты что подумала?
— Как воротится-то, Ефим? С того света? — прошептала Пелагея, пятясь. — Ты меня не пугай.
— Ну, баба! — Лука всплеснул руками и попятился к выходу, готовый к бегству. — Никакого чувства юмора! Кто тебе сказал, что она преставилась?
— Ты сказал! — закричала Пелагея, багровея. — Твоими словами! «Отошла к Господу»! И за упокой пили! Ты что ж это, ирод, надо мной решил поизмываться?!
Краска сошла с её лица, сменившись мертвенной бледностью.
— Да я не в том смысле! — залепетал Лука, пятясь к двери. — Я иносказательно! В смысле — к Богу, в монастырь! Она ж у меня на три дня в монастырь поехала, к мощам! А дома жрать нечего, она приготовить не успела, ну как не успела — борщ сварила, а я его в холодильник не убрал, он и прокис. Два дня сухомяткой маялся, а тут про твои блины вспомнил. Дай, думаю, зайду к доброй душе…
Пелагея медленно, не сводя с него горящего взгляда, стащила с ноги босоножку.
— А зачем же ты, лукавая душа, врал-то? Зачем за упокой пил?! — тихо, вкрадчиво спросила она.
— Перестарался, Пелагеюшка, заврался, — признался Лука, сжимаясь. — Хотел разжалобить, чтоб уж наверняка блинами накормила.
Босоножка просвистела в воздухе, врезавшись Луке в плечо.
— Ах ты врун поганый! — завопила Пелагея, срывая вторую. — Бессовестный! Кощунник! Чтоб тебе пусто было! А ну вон отсюда!
Вторая босоножка угодила Луке точно пониже спины, когда он вылетал на крыльцо.
— Я Клавдии всё расскажу! — неслось ему вслед. — Всё как есть расскажу, когда вернётся! Погоди у меня, артист кудлатый!
Пелагея с размаху захлопнула дверь. Дверь, с любовью подогнанная Лукой, вошла в проём с мягким, довольным щелчком, без малейшего скрипа.
— Тьфу ты, напасть! — выдохнула Пелагея, глядя на идеально закрытую дверь. — И ведь всё починил, паразит…
Весь посёлок, кроме Пелагеи, которая была здесь ещё новенькой, давно знал про Лукá. Про то, что он первый враль. Люди привыкли, на удочку не попадались, а если и попадались случайно, то долго обижаться не могли — уж больно душевный был мужик. Поможет, рассмешит, историю расскажет так, что заслушаешься, даже зная, что всё это чистейшей воды вымысел. Знали про него и то, что жена ему за вранье взбучки задаёт, но всё без толку — болезнь какая-то.
Но был в посёлке человек, который Луку на дух не переносил. Старая, ссохшаяся, как прошлогоднее яблоко, бабка Дарья Филипповна, по прозвищу Филя. Держала она коз. И случилась с ней история, которая поселила в её сердце лютую ненависть к Луке.
Как-то раз сбежал у неё любимец, козёл Борька. Бросилась Филя его искать, вся изошла. И встретила Луку.
— А ваш козёл, баба Дарья, — сказал тот с самым честным видом, — такой кульбит у реки выдал! Сиганул с обрыва и рогами зацепился за сук вон того дуба, что над водой нависает. Висит, бедный, блеет. Ничем его не снять, только если ковшом подцепить, да рога спиливать.
Филя, схватившись за сердце, поверила. Побежала в сельсовет, выпросила трактор с ковшом, отвалив мужикам половину пенсии на опохмел. Приехали к реке — нет козла. Решила Филя, что Борька сорвался и утонул. В слезах поплелась домой, а Борька, целехонький, стоит у калитки и жуёт её любимые георгины. Мужики деньги Филе вернули, но Луку она закляла. И не подходил он к ней больше.
А однажды Лука так переврал, что его чуть не побили свои же, с комбината. Шёл он мимо, а мужики, скучая, окликнули:
— Эй, Лука! Соври что-нибудь! Повесели!
Обычно он охотно врал, все ухохатывались. Но тут Лука даже не остановился, пробежал мимо с выпученными глазами.
— Некогда врать! — крикнул на бегу. — Только что звонили! В городе универмаг закрывают! Всё за бесценок отдают! Мы с Петровичем на его «буханке» рванули, пока всё не расхватали!
И умчался. Мужики переглянулись, помялись минуту, а потом как взревели, побросали работу, запрыгнули в кузов попутного грузовика и рванули в город. Вернулись злые, грязные, с выговором от начальства. Луку искали, но он уже знал где-то прятался.
— Сами просили соврать! — орал он с крыши сарая, куда они не могли залезть.
И вот наступил тот вечер, который всё переменил. Возвращался Лука поздней ночью с рыбалки, один. Гроза отшумела, но воздух был сырой и тяжёлый. И вдруг, на окраине, где стояла избушка бабы Дарьи, он увидел зарево. Горело! Лука мигом протрезвел (он и не пил вовсе, с собой термос с чаем брал), бросился к ближайшим домам, заколотил в ставни.
— Люди! Пожар! Вставайте! Изба горит!
Выходят люди, спросонья злые, и видят — Лука.
— Опять врёшь, полуночник! Спать людям не даёшь!
— Да горит же! Вызывайте пожарных! — надрывался Лука, но ему никто не верил.
Тогда он сам рванул к огню. Избушка Филы полыхала, как свечка. Лука, не помня себя, выбил дверь, ворвался внутрь. Дым ел глаза, жар обжигал лицо. Он нашарил на кровати старуху, без сознания, накрыл её своим пиджаком и выволок наружу. Оставил на траве, подальше от жара, и снова кинулся в дом — за козами. Он выводил их, обжигая руки, одну за другой. Шерсть на них дымилась, но все были живы. Сам он потом выскочил, когда уже рухнула крыша. Тут и соседи подоспели, увидев настоящее пламя, и пожарные.
Очнулся Лука в больнице, весь в бинтах. Рядом сидела заплаканная баба Дарья.
— Прости меня, Ефимушка, — шептала она, гладя его по забинтованной руке. — Злыднем я была. Век тебя помнить буду.
Выздоравливал Лука долго. А когда вернулся домой, увидел, что соседи, те самые мужики с комбината, которых он обманул с универмагом, всей улицей ставят для бабы Дарьи новую времянку на его участке. Клавдия, хоть и ворчала, но приняла старуху в дом, а потом, когда времянка была готова, переселила её туда с почётом.
Изменился ли Лука? Не совсем. Врать он не перестал. Но теперь, прежде чем начать очередную историю, он лукаво подмигивал. И это подмигивание значило: «Не верь ни единому моему слову, но послушай, как красиво!»
Пелагея Ветрова, узнав о пожаре и подвиге Луки, пристыдила себя за тот случай с босоножками. Она испекла огромный противень своих знаменитых блинов и пришла на новоселье к бабе Дарье. Лука, увидев её, смутился и спрятался за спину Клавдии, но Пелагея подошла к нему сама.
— Ты это, Ефим Капитоныч, — сказала она тихо, пряча глаза. — Ты не думай. Я погорячилась тогда. Хороший ты мужик. И блинчики мои, выходит, правда любишь.
Клавдия, услышав это, только крякнула и ушла в дом. А Лука расплылся в улыбке, от которой его кудряшки снова смешно подпрыгнули.
— Люблю, Пелагеюшка, люблю! — воскликнул он. — И знаешь, что я тебе скажу? Я тут намедни в лесу видел…
Он осекся, встретив её предостерегающий взгляд, и виновато подмигнул.
— Ладно, вру, — вздохнул он. — Не видел я ничего. А блины и правда объеденье.
В тот вечер в посёлке Горные Ключи было шумно и людно. Пахло свежим деревом от новой времянки, сдобой от пелагеевых блинов и вишнёвкой, которую выставила Клавдия. А на краю стола, на почётном месте, сидела спасённая баба Дарья с обновлённым, просветлённым лицом, и смотрела на Луку, который травил очередную байку, честно подмигивая всем, как на грех, слушателям.
И в этом подмигивании, в этом общем смехе и тепле, было что-то такое настоящее, что никакая ложь перечеркнуть уже не могла. Потому что правда была в другом — в поступке, в прощении, в блинах, которые пахли домом, и в людях, которые, несмотря ни на что, оставались людьми. А для Пелагеи тот вечер стал началом новой истории, которая, как водится в хороших сказках, только начиналась. И история эта была самая что ни на есть правдивая.