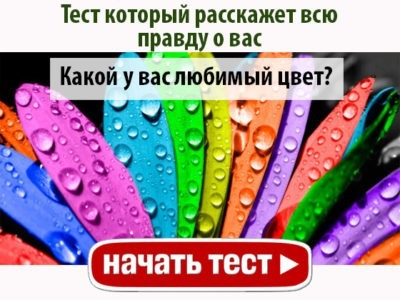1946-й, Сибирь. Завидовала кузине до чертиков, пока не придумала гениальный план: напоить её мужа, лечь с ним рядом и объявить себя беременной. План сработал… но не так, как она мечтала

Весна 1946 года дышала на землю осторожным, робким теплом. Природа, словно стараясь загладить суровость пережитых лет, щедро рассыпала по сибирским просторам яркие краски первых цветов и молодой зелени. В деревне, затерянной среди бескрайних лесов и холмов, жизнь медленно, но верно возвращалась в мирное русло. Зарубцевались раны на земле, заросли травой окопы на окраинах, а в сердцах людей стала понемногу оттаивать ледяная кора страданий. Казалось, само время, уставшее от боли, теперь стремилось к покою и созиданию.
Сердцем этого нового мира, его живым воплощением, был дом Антонины и Владислава. Их бревенчатая изба под темной от времени крышей всегда была полна звуков: звонкого детского смеха, спокойного перестука веретена, басовитых переборов гармони. Антонина, женщина с ясным, как утреннее небо, взглядом, казалась самой судьбой отмеченной благодатью. Ей только-только исполнилось двадцать семь, а жизнь уже дарила ей щедрые дары. Ее супруг, Владислав, вернулся с войны целый и невредимый, принеся в простом холщовом мешке не только ордена, но и несокрушимую веру в будущее. Он сразу же окунулся в работу, возглавив полеводческую бригаду. Люди шли за ним не из-за приказа, а потому что видели в его глазах ту же неугасимую искру, что горела в глазах тех, кто выстоял и победил. Под его началом колхозные нивы, долгое время тосковавшие по мужским рукам, стали давать щедрые всходы. Амбары, еще недавно пустовавшие и зиявшие темнотой, теперь туго набивались зерном, а в погребах стояли душистые кадки с соленьями.
Но главным богатством Антонины были не полные закрома, а тихая, прочная радость, поселившаяся в ее душе. Рядом был любимый муж, подрастал крепкий, смышленый сынишка Мишутка, родившийся накануне войны, а под сердцем уже шевелилась новая жизнь. По вечерам, когда Владислав возвращался с поля, она, глядя, как он играет с малышом, чувствовала, как переполняет ее тихое, безграничное счастье. Казалось, все беды и тревоги остались в прошлом, за горизонтом, и впереди — только светлая, ровная дорога.
Однако не всем в деревне солнце светило одинаково ярко. На окраине, в покосившейся избенке с почерневшими от времени бревнами, жила Варвара, двоюродная сестра Антонины. Их судьбы, когда-то такие похожие, разошлись, будто две реки, текущие по разным склонам горы. Муж Варвары, Степан, был арестован еще в конце тридцатых и бесследно сгинул в лабиринтах лагерной системы. Всё их нехитрое имущество конфисковали, а саму Варвару, как жену «врага народа», изгнали из колхоза. Теперь она ютилась вместе со своей матерью, Евлампией, и вдовой погибшего на фронте брата, Клавдией. Жили они в нужде, перебиваясь скудными случайными заработками и тем, что приносила с поля уже немолодая Евлампия.
— Глянь-ка, Варюша, — вздыхала старуха, указывая заострившимся от труда пальцем на соседский дом, где на крыше, озаренный закатным солнцем, возился Владислав. — Вот у Антониньки-то судьба сложилась, словно по писаному. И муж героем вернулся, и в доме достаток, и детишки. А мы… мы будто щепки в бурном потоке. Сегодня на поверхности, а завтра — на самое дно пойдем.
Варвара молчала, но в ее сердце, израненном потерей и унижением, медленно зрело горькое, колючее чувство. Она видела, как Владислав бережно поддерживает Антонину, помогая ей сойти с крыльца, как смеется, высоко подбрасывая Мишутку. Видела новые занавески на их окнах и добротные валенки на ногах мальчугана. И каждый раз при этом в груди что-то сжималось, давящей тяжестью ложась на душу. За что? Почему одной — все лучи солнца, а другой — вечная холодная тень? Она вспоминала день, когда за Степаном пришли, его растерянное, белое лицо. Вспоминала свой собственный крик, застрявший в горле, и страшную, вселенскую пустоту, наступившую после. Помнила, как в тот же день, лишившись последней опоры, потеряла неродившегося ребенка. И теперь, глядя на округлившийся живот сестры, она чувствовала не радость, а лишь жгучую, несправедливую обиду.
— О чем задумалась, доченька? — прервала ее тягостные мысли Евлампия.
— Ни о чем, матушка, — отозвалась Варвара, отводя взгляд. — Рада я, что у Тони такое счастье. Пойдем-ка, стемнело уже.
Они направились к своему темному жилищу, и на пороге Евлампия вдруг схватила дочь за руку, понизив голос до змеиного шепота:
— Вот бы тебе такого суженого, как Владислав. Ах, как мечтается старухе увидеть тебя в достатке да в радости! Всё им, Антонине да матери ее, легко давалось. А нас жизнь била, как молотком по наковальне. И нищета, и похоронка на брата, и твой арестант, и выкидыш… А они будто за каменной стеной.
— Бабка дело говорит, — раздался из темноты сеней голос Клавдии. Она сидела на завалинке, штопая рубашонку своего маленького Ванечки. — Если счастья хочешь, не жди, пока оно с неба свалится. Хвать его руками, уцепись, не выпускай.
— С ума вы сошли, обе? — прошептала Варвара, с ужасом глядя на них. — Какое счастье? Мужа у сестры красть? Да вы что!
— Какая она тебе сестра? — фыркнула Клавдия. — Дядя твой на вдове Дарье женился, когда та с Антонинкой на руках осталась. Кровная ли это родня? О чужом добре печемся, а свое по ветру пустили.
— Мы вместе росли! — вспыхнула Варвара. — Для меня она — родная!
— Ну так иди замуж за Тихона, что к тебе похаживает, — еще тише прошипела Клавдия, когда Евлампия скрылась в избе. — Троих его ребятишек в придачу получишь. Вот тебе и семья готова.
— Никогда! Не желаю я быть вечной работницей в чужом доме. И ты помалкивай, чтоб мать не слыхала.
— Тогда и живи в девках. Небось, очередь женихов у нашего забора выстроилась, — язвительно бросила невестка. — Век наш, бабий, — что утренняя роса. А теперь, после войны, и вовсе миг один. У меня хоть Ванька есть, отрада. А у тебя одна тоска да зависть в глазах. Так и засохнешь, глядя на чужих детей.
Слова Клавдии, жесткие и беспощадные, вонзались в самое сердце. И как ни горько было это признавать, Варвара понимала: в них есть своя, уродливая правда.
— Владислав, голубчик, — окликнула его как-то Евлампия, когда он проходил мимо их плетня. — Не окажешь ли старухе малость помощи? Забор наш совсем развалился, корова сегодня угол расшатала. Ты у нас мастер золотые руки, всем известно.
— Да что вы, тетушка, какая уж вы старуха, — улыбнулся Владислав, хотя усталость давила на плечи свинцовым грузом. — Только сил нет, честно говоря. Третий день в поле.
— Да работы-то на полчасика, — затараторила Евлампия. — Загляни как-нибудь в выходной.
Владислав, по натуре своей не умевший отказывать, кивнул. Хотя в выходной они с Антониной собирались на базар в соседнее село — продать пару поросят, да купить ситцу на пеленки.
— Ладно, — сказал он. — Сегодня, коли пораньше управимся, забегу.
И словно в угоду его обещанию, работа в тот день спорилась. Бригада закончила сев на участке раньше обычного. Солнце еще высоко стояло, когда Владислав, скинув пропитанную потом рубаху, подошел к покосившемуся забору Евлампии.
Работа оказалась хлопотной: столбы подгнили, доски рассохлись. Жара стояла невыносимая, и Евлампия, суетясь вокруг, то и дело подносила ему глиняную кружку.
— Пей, родимый, пей. Устаток снимает. Антонинка, поди, бережет тебя, не балует?
Владислав, измученный зноем и трудом, сначала отнекивался, но потом, почувствовав, как разливается по телу обманчивая теплота, сделал несколько глотков. Самогон был крепкий, пахнущий хлебом и горечью. Усталость стала отступать, сменяясь приятной разбитостью. Кружка оказывалась полной снова и снова. А когда последний гвоздь был вбит, Владислав опустился на траву, и мир вокруг поплыл, потерял четкие очертания.
— Пойду… домой, — с трудом выговорил он, пытаясь подняться.
— Да куда уж тебе, сокол, — засуетилась Евлампия, ловко подхватив его под руку. — Шататься по деревне в таком виде — людей только смущать. Приляг в горнице, отдохни. Я сейчас Клавдию или Варю к Антонине отправлю, скажу, чтоб не ждала.
Мысль о том, чтобы пройти через все село, казалась теперь невыполнимой. Владислав, покорный, как ребенок, позволил отвести себя в избу и уложить на широкую кровать в дальнем углу горницы. Сознание его тонуло в густом, темном тумане.
Евлампия, прикрыв за ним дверь, быстро нашла Варвару.
— Иди, — коротко приказала она. — Лежит он там. Помни, что говорили.
Варвара замерла на пороге, глядя на спящего мужчину. Сердце ее бешено колотилось, смешались страх, стыд и какая-то темная, запретная надежда. Она переоделась в ночную сорочку и, потушив свет, легла рядом, не смея дохнуть. Евлампия, приоткрыв дверь и увидев эту картину, тихо, по-кошачьи, улыбнулась и скрылась в темноте сеней.
Тем временем Антонина, накрыв на стол, начала беспокоиться. Сумерки сгустились, а Владислава все не было. Решив навестить тетку, она, накинув платок, вышла на улицу. В доме Евлампии горела тусклая лампа. На пороге ее встретила Клавдия.
— Владислав здесь, — быстро сказала та. — Умаялся очень. Спит. Утром придет.
— С чего это он у вас ночевать остался? — насторожилась Антонина.
— Самогону тетка твоя ему поднесла, сморило его. Не серчай, не удержалась старуха.
Раздражение вспыхнуло в душе Антонины, но его тут же сменила жалость к уставшему мужу. Ей захотелось его увидеть, хотя бы на мгновение. Отстранив Клавдию, она тихо толкнула дверь в горницу и замерла, будто наткнувшись на невидимую стену. В слабом свете, падающем из сеней, она увидела фигуру мужа и рядом — Варвару, которая, заметив ее, вскочила с испуганным вскриком, судорожно натягивая на себя одеяло.
— Варвара! — вырвалось у Антонины, и голос ее прозвучал чужим, надтреснутым. — Что это? Что вы делаете?
Она стремительно вошла в комнату и резким движением дернула одеяло. Владислав лежал в одних портах, беспробудно спящий.
— Владик, проснись! — крикнула она, тряся его за плечо.
Тот с трудом открыл глаза, ничего не понимая. Взгляд его был мутным, невидящим.
— Что… что случилось? — пробормотал он.
— Вот что случилось! Ты… с ней! Да как вы посмели?
Варвара закрыла лицо руками, ее плечи вздрагивали от беззвучных рыданий.
— Не кричи, Тоня, — всхлипнула она. — Я не хотела… само вышло…
— Само вышло? — Антонина подскочила к ней, вся сжавшись от боли, готовая вцепиться, но удержалась, лишь сжимая кулаки до боли в костяшках. — Ты, змея! Завидно стало моего счастья? Решила отнять?
В комнату вбежала Евлампия, изображая крайнее изумление.
— Антонина! Да что такое? На Варюшку с кулаками? Ой, беда-то какая…
— Я… я ничего не помню, — растерянно бормотал Владислав, садясь на кровати и хватаясь за голову. — Как я здесь оказался…
— Не помнишь? — Антонина смотрела на него с таким презрением и болью, что он физически почувствовал удар. — А я помню все твои клятвы! Помню, как ты говорил, что мы — одно целое!
Не в силах больше ничего слышать и видеть, она выбежала из проклятого дома. Владислав, спотыкаясь, бросился за ней, но Евлампия преградила ему путь в сенях.
— Пусть остынет, племянничек. Прогуляйся, проветри голову.
— Тетка, — голос его стал тихим и опасным. — Объясни. Как вышло, что Варвара оказалась со мной?
— А как же иначе? Напился ты, начал ее обнимать, в любви признаваться, говорил, что давно к ней не равнодушен. Да мы еле оттащили…
— Не может этого быть, — с ледяной уверенностью произнес Владислав. — Я Антонину люблю. Варвара для меня — сестра. Вы что-то затеяли.
Евлампия обиженно всплеснула руками, но он уже не слушал. Шагая по темной деревенской улице, он чувствовал, как в висках стучит не только похмелье, но и ярость от осознания подстроенной низости. Неужели этот абсурд, эта грязная ложь может разрушить его мир?
Дома он долго и мучительно говорил с женой, клялся в своей невиновности, говорил о странных разговорах, подслушанных матерью Антонины, Дарьей. Старушка, тихая и мудрая, подтвердила: да, слышала, как Евлампия жаловалась соседке на горькую долю Варвары и завидовала вслух их благополучию.
— Верю я тебе, — наконец, сквозь слезы, выдохнула Антонина, прижавшись к его груди. — Но сердце… сердце разорвано на части.
Прошел месяц. Рана в душе Антонины начала медленно затягиваться, но к Варваре и тетке она не ходила, избегала встреч. Тень легла между ними, длинная и холодная.
А Варвара, к изумлению многих, стала появляться на людях с новым, странным выражением лица — в нем читалась и растерянность, и какая-то вымученная гордость. Она ходила, слегка придерживаясь за пояс, и по селу поползли шепотки. А вскоре она сама, встретив Владислава у колодца, тихо, но отчетливо сказала:
— Ты отец моего ребенка, Владислав. Месяц уже.
Он отшатнулся, будто от удара.
— Перестань нести чушь, Варвара. Ничего между нами не было.
— Я-то была в памяти, — грустно улыбнулась она, и в этой улыбке была непроницаемая уверенность. — Помню все. Ох, лишь бы дитя здоровое родилось. Не скоро, конечно, но… считай от того вечера. Всё совпадет. И тогда уж всем будет ясно.
И с каждым таким разговором, с каждой ее уверенной фразой в душе Владислава, несмотря на всю его волю, шевелился червь сомнения. А что, если в том пьяном забытьи… Нет, не может быть! Но семя тревоги было посеяно.
Когда Антонина родила дочь, названную Светланой, Варвара пришла с «поздравлениями» и вновь, при всех, намекнула на скорое прибавление и в своей семье. И смотрела при этом прямо на Владислава.
— Восстанови меня в колхозе, — требовала она его потом. — Ты обязан помочь. И мне, и своему будущему ребенку.
Однажды вечером, сидя за разговором со старым товарищем, Семеном, Владислав не выдержал и излил душу.
— Не знаю, что и думать, Семен. Антонина извелась вся. Варвара словно бес какой вселился. Говорит — мой ребенок. А я, как столбнячный, ничего доказать не могу.
Семен, человек бывалый и наблюдательный, рассмеялся.
— Да брось ты горевать-то! С чего это твой ребенок? К Варваре Тихон, лесник тот, зачастил. Сам мне сокрушался, что она замуж идти не хочет, детьми его обременяться. А он за ней, как месяц, ходит. И гостинцы таскает.
Как гром среди ясного неба прозвучали эти слова для Владислава. Он вспомнил высокого, угрюмого мужчину с ярко-рыжей, как осенняя листва, бородой. И вспомнил, что все дети Тихона — такие же огненные шапки.
На следующий же день Владислав нашел Тихона на делянке.
— Поговорить надо, — сказал он прямо. — Про Варвару.
Тихон нахмурился, сжимая рукоятку топора.
— И о чем говорить? Ребенка, говорит, от тебя ждет. Тебе бы рожу начистить…
— Перед дракой выслушай, — перебил Владислав. И рассказал все, как было: про работу у забора, про самогон, про подстроенную сцену.
Тихон слушал, не перебивая, и борода его, казалось, налилась еще более медным цветом от внутреннего гнева.
— Вот как, — прошамкал он, когда Владислав закончил. — Значит, за двумя зайцами… А попала в капкан.
Роды у Варвары были трудными. Когда на свет появилась девочка, повитуха ахнула. Младенец, сморщенный и кричащий, был увенчан пухом волос цвета свежей меди — ярким, неоспоримым, фамильным знаком Тихона.
Евлампия, увидев внучку, впала в настоящую ярость.
— Когда ты успела? А ты, Клавдья, знала?
— Знала, — угрюмо ответила невестка. — Да не судья я ей. У меня свой ребенок есть.
— Беги за Тихоном! Пусть глянет на свое творение!
Тихон пришел, тяжело ступая по скрипучему полу. Он взглянул на рыжую крошку, и суровое лицо его смягчилось на миг. Но потом он поднял глаза на Варвару, и в них не осталось ничего, кроме холодного разочарования.
— Мое, это ясно. Только вот… На Варваре я теперь не женюсь. Не нужна мне обманщица, сестрино горе на свою голову призывавшая. Ума не хватило подумать, на кого дитя пойдет.
— Как не женишься? — взвизгнула Евлампия. — Обязан!
Но Тихон был непреклонен. Однако деревенский совет, куда тут же побежала Евлампия, решил иначе. Начальство, озабоченное «укреплением морали», постановило: коли отец установлен, должен брак зарегистрировать. Под давлением, с угрозой лишить места, Тихон скрепя сердце согласился.
Они стояли в сельсовете: он — мрачный и замкнутый, она — бледная, с потухшими глазами. Мечта Варвары о другом, богатом и счастливом будущем разбилась вдребезги, оставив после себя лишь осколки стыда и горького прозрения. Тихон же смотрел в окно и думал, что чувство, которое он когда-то лелеял, умерло в тот миг, когда он понял весь масштаб ее лжи.
—
Прошли годы. Антонина так и не смогла простить сестру и тетку полностью. Зависть, как черная краска, пролилась между ними, навсегда окрасив прошлое. Но жизнь шла вперед. Любовь и доверие между ней и Владиславом, выдержав страшное испытание, стали только крепче, подобные выжженному в горниле металлу.
В 1955 году семья, уже с тремя детьми, покинула деревню, уехав в растущий город, где Владислав нашел работу на большом заводе. Дарья, мать Антонины, к тому времени упокоилась на деревенском кладбище, и возвращаться стало не к кому. Судьба Варвары и Тихона осталась для них за горизонтом.
А в деревне жизнь текла по-прежнему, принимая в свое русло и радости, и горести. Варвара жила с Тихоном под одной крышей, но разделенные бездной молчания и взаимного отчуждения. Счастье, о котором она так исступленно мечтала, оказалось миражом. Зависть, когда-то поселившаяся в ее сердце, не дала плодов, лишь иссушила душу, оставив после себя пустоту и тихое, беспросветное раскаяние.
Однажды, уже в конце шестидесятых, Антонина, приехав по делам в родные места, шла по знакомой, но изменившейся улице. Возле одного из домов, на старой, посеревшей от времени завалинке, сидела пожилая, сгорбленная женщина. Лицо ее было изборождено глубокими морщинами, а в глазах стояла такая бездонная, примирившаяся с тоской печаль, что Антонина невольно остановилась. Они узнали друг друга одновременно.
— Варвара, — тихо произнесла Антонина.
Та медленно подняла на нее взгляд. В ее глазах мелькнуло что-то — испуг, стыд, а потом лишь усталая покорность.
— Антонина… Здравствуй. Проездом?
— Да… По делам.
Наступило неловкое молчание, наполненное тяжестью всех непрожитых вместе лет.
— Знаешь, — вдруг, с трудом, начала Варвара, глядя куда-то мимо, на чахлые георгины у плетня. — Я часто думаю о том времени. О той страшной глупости… Я не оправдываюсь. Не за что. Я отравила жизнь и себе, и тебе на миг, и тому… кто рядом. Зависть — она как болезнь. Съедает изнутри, пока от человека одна оболочка не остается.
Антонина слушала, и старое, закаменевшее горе в ее груди вдруг дрогнуло и дало трещину. Она увидела перед собой не коварную соблазнительницу, а сломленную, одинокую старуху, всю жизнь несущую на плечах крест собственной ошибки.
— Всё уже в прошлом, Варвара, — сказала она мягко. — Вода утекла, мельницы стоят. Жизнь слишком коротка, чтобы вечно нести в себе камни прошлого.
Она не сказала «я прощаю». Но в этих словах, в самом тоне, не было уже ни гнева, ни обиды. Была лишь легкая, светлая грусть о безвозвратно утерянном — о юности, о доверии, о сестринской близости, растоптанной и похороненной в грязи деревенской улицы давним летом.
— Спасибо, что сказала, — прошептала Варвара, и на ее иссохшие веки навернулась редкая, давно забытая влага.
Антонина кивнула и пошла дальше, к старому, теперь чужому дому. А позади нее оставалась женщина на завалинке, одиноко смотрящая в сторону леса, где уходила вдаль дорога — дорога, по которой когда-то увезли ее последнюю надежду на иную жизнь. И в тихом вечернем воздухе, пахнущем дымом и прелой листвой, витала простая и вечная истина: что посеешь, то и пожнешь. Счастье, построенное на чужом горе, не бывает прочным; оно рассыпается в пыль, оставляя после себя лишь горький привкус и тихий шепот увядших, так и не распустившихся по-настоящему цветов