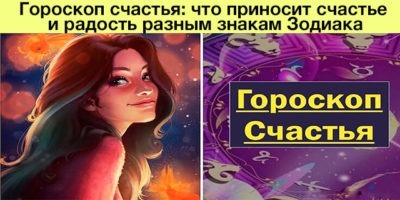2001 год. Сестра прокляла нас с мужем, но не учла, что зло бумерангом возвращается через чернозем и пару лопат. Теперь её место — рядом с мамой, а наше — под солнцем

Осенний ветер стучал мокрыми ветвями старой рябины в оконное стекло, словно торопил уходящее время. Вероника сидела у кровати, на которой, утопая в подушках, лежала ее мать. Лицо женщины было прозрачным, почти восковым, а тонкие руки с синеватыми прожилками вен беспомощно лежали на одеяле. В комнате пахло лекарствами, вареными яблоками и тихой, непреодолимой печалью. Вероника едва сдерживала слезы, сжав кулаки так, что ногти впивались в ладони.
– Верочка, не плачь, солнышко мое. Не надо. – Голос матери был тихим, шелестящим, как последние листья под ногами. – Всему свой срок. Господь, видно, отмерил мне ровно столько, сколько было нужно. А ты… ты остаешься в самых надежных руках. Леонид у тебя – золотой человек. Редкий. Жаль, мне в молодости такого не встретилось… Детки у вас пойдут, жизнь наладится, все закрутится, завертится. А ты… ты обо мне вспоминай без слез, ладно? Просто поминай в даты. И на могилку… если сможешь, посади петунии. И бархатцы. Я их всегда любила. Они такие жизнестойкие, яркие…
– Хорошо, мамочка. – Голос Вероники дрогнул и сорвался. Слезы, горячие и соленые, покатились по щекам, оставляя на коже влажные тропинки. – Все будет, как ты скажешь. Все.
Леонид сменил ее глубокой ночью, когда за окном царила густая, непроглядная темень. Он молча вошел в комнату, положил свою крупную, трудовую руку на плечо жены и кивнул. Она, обессиленная горем и бессонницей, покорно поплелась в соседнюю комнату, но сон не шел. Она лежала и слушала тихий шепот из-за стены – Леонид что-то говорил угасающей женщине, той, которая за недолгие годы стала ему роднее кровной матери. Около четырех утра, когда предрассветный ветер стал холоднее, он разбудил Веронику. В его глазах стояла тихая, взрослая скорбь.
– Пора, – только и произнес он, и это одно слово сказало больше любой длинной речи.
Похороны прошли как тяжелый, размытый сон. Серое небо, холодная земля, горький запах осенней сырости и чужие, сочувствующие лица. Потом поминки в тесной квартире, гул голосов, звон посуды. И почти каждый, выражая соболезнования, с любопытством или укором спрашивал: «А где же младшая? Где Кира?» Что могла ответить Вероника? Откуда ей было знать? Та уехала пять лет назад, и все это время связь ограничивалась безликими поздравительными телеграммами, приходившими из Московского главпочтамта. Ни строчки о себе, ни адреса, ни заветного номера телефона. Только сухие строки: «С праздником. Кира.»
Кира всегда была ветреным, легкомысленным созданием, живущим по велению мгновения. После того как ее отчислили из института – в который мать вложила последние сбережения и недополученные отпуска, – между ними грянула сокрушительная ссора. Громкие слова, хлопнувшая дверь, и младшая дочь исчезла, перебравшись к подруге. Через месяц она ненадолго вернулась, словно ураган, вытряхнула свои вещи из старого шифоньера и объявила, что уезжает покорять Москву. Там, мол, и деньги большие, и возможности, и жизнь бьет ключом. Не то что здесь, на самой окраине города, где автобус ходит три раза в день, а перспективы тускнеют с каждым закатом. Она говорила это, не глядя в глаза матери, и ее слова висели в воздухе холодными осколками.
Вероника же осталась. Она работала учителем биологии в местной школе, тихой и неприметной, как полевой цветок у дороги. Бросить мать одну, особенно после того как от них ушел отец, она не могла даже в мыслях. Ее мир был четким, ясным и ответственным: уроки, тетради, мамины пироги по субботам и тихие вечера за вышивкой.
Судьба привела Леонида в ее жизнь ровно через год после отъезда Киры. Он был строителем, бригадиром, занимавшимся капитальным ремонтом в ее школе. Высокий, спокойный, с добрыми глазами и умением слушать. Все закружилось само собой, как осенние листья в воронке ветра. Скромное предложение, смущенное «да», и робкие планы на будущее. Леонид, детдомовский сирота, к тому времени получил от государства однокомнатную квартиру на окраине и предложил молодой жене переехать туда. Но Лидия Никитична, узнав об этом, лишь округлила глаза, полные немого ужаса.
– Господи помилуй, детки, да вы с ума сошли! – воскликнула она. – Какую однушку? У меня здесь просторно, три комнаты! А если детишки пойдут? Куда вы их в клетушке разместите? Кроватку в какую щель поставите? И жить отдельно… Нет, я вас умоляю, оставайтесь здесь. Я одна с ума сойду в этой тишине. А свою квартиру, Леонид, ты сдашь – и будет вам небольшой, но доход. Разве не логично?
Спорить не стали. Сыграли скромную свадьбу в узком кругу, и Леонид переехал в дом тещи. Та встретила его как родного, откармливала блинами с творогом, пирогами с капустой и вареньем из райских яблочек, и вскоре стала называть не иначе как «сынок».
А через два года случилось то, чего не помнили даже старожилы. Небывалое наводнение. Вода пришла тихо и коварно, подмывая фундаменты, заливая подвалы, унося с собой мирное течение жизни. Их дом, хоть и устоял, но получил тяжелые раны: отсырели стены, покоробились полы, испортилась мебель и вся бытовая техника. Стоя среди разрухи, они втроем молча смотрели на руины былого уюта и не знали, где взять средства на восстановление.
И тогда Леонид принял решение. Единственное, как ему тогда казалось, верное. Он выставил на продажу свою однокомнатную квартиру – тот самый крохотный островок личного счастья, который едва успел появиться в его жизни. Покупатель нашелся почти мгновенно. Все вырученные деньги он, не раздумывая, вложил в ремонт общего дома. Хватило и на новые стены, и на крепкие полы, и даже на скромную, но новую мебель и технику. Лидия Никитична, глядя на него, плакала беззвучно, а потом обняла, прижалась к его плечу и прошептала: «Сынок ты мой настоящий. Без примеси».
А потом она заболела. Сначала это была просто усталость, потом – непроходящая слабость, а вскоре врачи развели руками, говоря сложные, пугающие слова. Леонид работал на износ, на двух стройках сразу, чтобы хватало на дорогие, импортные лекарства, которые могли если не вылечить, то хотя бы облегчить страдания. На зарплату учительницы, увы, особо не разгонишься.
И вот в один из тех редких дней, когда боль отступила, а в голове было ясно, Лидия Никитична, собрав последние силы, отправилась к нотариусу. Вернулась с тонкой, но невероятно весомой бумагой – завещанием, в котором все свое имущество, а это был только этот дом, делила поровну между старшей дочерью и зятем.
– Мама, да зачем же это? – хором воскликнули они, держа в руках тот самый документ.
– Так решила. Точка. – Ее голос звучал твердо, по-хозяйски. – Вы были рядом, когда было трудно. Ты, Леонид, кровное свое продал, в этот дом вложил. Ты, Верочка, крылом меня своим прикрывала. А Кирочка… Нет ее в нашей жизни. Нет и все. Может, у нее там, в столице, уже свои хоромы. Мы-то откуда знаем? Обратного адреса она не соизволила оставить ни разу.
Прошел тяжелый, туманный год с момента ухода матери. Вероника и Леонид, выполняя ее волю, вступили в наследство и оформили дом в равных долях. Жизнь, казалось, начинала налаживаться: Вероника была на пятом месяце беременности, и они с нетерпением ждали девочку, которую уже мысленно назвали Ириной. С упоением обустраивали маленькую комнатку, бывшую когда-то гостиной, клеили обои с ромашками, собирали колыбельку, мечтали о будущем. И в этот хрупкий мир новых надежд, как гром среди ясного неба, ворвалась она.
Дверь распахнулась без стука. На пороге стояла Кира. Она была подобна экзотической птице, залетевшей в провинциальный скворечник. Дорогой, слегка кричащий костюм, волосы, уложенные сложной волной, духи с терпким, чуждым ароматом, серьги, поблескивающие холодным блеском. В тонкохлой руке она сжимала небольшой, но явно очень дорогой сотовый телефон, чья марка была незнакома обитателям этого дома.
– Привет, родственнички мои дорогие! Встречайте гостью из будущего! – голос ее звенел фальшивой, натянутой веселостью.
Леонид, вытиравший руки после покраски оконной рамы в детской, медленно обернулся, уставившись на незнакомку.
– Это… сестра твоя, Вер? – тихо спросил он у жены, стоявшей, окаменев, с мотком розовых лент в руках.
– Да уж, сестра, самая что ни на есть родная, – ответила за ошеломленную Веронику Кира, оценивающим взглядом окидывая скромную обстановку. – А ты, видимо, тот самый зять-молодец, который тут обосновался? Неплохо устроились, я погляжу.
– Закрой рот, – тихо, но с такой ледяной твердостью произнесла Вероника, что даже Леонид вздрогнул. В ее голосе не было и тени привычной учительской мягкости. – Как тебе не стыдно? Совсем?
– Ой, ну что ты как всегда, – фыркнула Кира, махнув рукой. – Занудой была, занудой и осталась. Ладно, с зятем познакомиться успею. Где мама? Хочу ее обнять, удивить!
– Мама? – Вероника не могла поверить своим ушам. – Ты… вспомнила о маме?
– Да что ты, как можно забыть? – Кира сделала большое глаза, играя в обиду. – День рождения, Новый год, Восьмое марта… Я всегда отправляла телеграммы. Самые лучшие, самые теплые!
– У тебя, Кирочка, нет ни капли совести, – голос Вероники дрожал. – Ты не приезжала. Не звонила. Ты даже адреса не оставила, чтобы мы могли тебе написать…
– Адреса не оставила, чтобы вы сюда не нагрянули, – отрезала Кира, теряя налет игривости. – Я у Жорика жила, понимаешь? У него свои правила. Прикинь, если бы вы с мамой появились на пороге? Неловко. Но я же помнила, сестренка! Телеграммы – доказательство. Так что вы знали – жива, здорова. Ну так где мать? В магазин ушла?
– Напротив старого пионерского лагеря, – глухо произнесла Вероника.
Кира нахмурилась, перебирая в памяти знакомые места.
– А что там сейчас? Там же пустырь был…
– Не мучай память. Не вспомнишь. Там теперь новое кладбище.
– Постой… Ты хочешь сказать… – лицо Киры вдруг побелело. Все ее напускное высокомерие испарилось, уступив место паническому непониманию. – Нет… Мама? Она… ушла?
– Да. Год назад. И я бы сообщила тебе, но не знала куда. Увы, – Вероника бессильно развела руками.
– Мамочка… – Киры словно подкосились. Она медленно, как в замедленной съемке, опустилась на пол, не обращая внимания на дорогую ткань брюк, и закрыла лицо руками. Плечи ее затряслись. – Я не знала… Я не думала… Она же молодая была, всего пятьдесят пять…
– Мне даже радостно, что ты помнишь, сколько ей было лет, – тихо сказала Вероника. – Но она тяжело болела. Мы с Леонидом были рядом. До самого конца. Хочешь… хочешь я отвезу тебя к ней?
Кира лишь кивнула, не в силах вымолвить слово.
Они поехали на старой, видавшей виды «девятке». Кира молчала всю дорогу, уставившись в мутное стекло. У входа на кладбище она вышла, купила у старушки огромный, безвкусный букет из гладиолусов и астр и попросила подождать в машине.
– Хочу наедине… попросить прощения, – прошептала она.
Они ждали почти час. Когда Кира вернулась, следы слез были тщательно смыты, но глаза оставались опухшими и пустыми.
По дороге назад Вероника, глядя на мелькающие за окном поля, спросила:
– Надолго к нам?
– Не знаю. Теперь, наверное, придется задержаться, – ответила Кира без прежней бравады.
– Зачем?
– Как зачем? – та взглянула на нее с удивлением. – Дом же делить надо. Понимаешь, без машины в Москве – никуда. Я со своей доли могла бы приличную иномарку взять. Жорик тот еще жмот – квартиру снимает, подачки кидает, а о машине и слушать не хочет.
– А с чего ты взяла, что у тебя есть какая-то доля? – медленно, вглядываясь в лицо сестры, произнесла Вероника.
– Как с чего? – Кира фыркнула, но в ее фырканье прозвучала первая трещинка неуверенности. – У мамы две дочери. Значит, дом делится поровну. Это же логика, сестра!
– Но существует завещание, составленное на меня и Леонида. Мы – законные владельцы, – Вероника вышла из машины, когда та остановилась у дома. Ее голос был спокоен и неумолим.
– С какой это стати?! – крик сорвался с губ Киры. Она выскочила из машины, глаза ее горели. – Вы что, совсем рехнулись?!
– Мы? – горькая усмешка тронула губы Вероники. – Нет, это ты, Кирочка, совсем стыд и совесть потеряла. Уехала. Шлешь свои бездушные телеграммы. А мы здесь жили. Дышали этим домом. Леонид после наводнения свою кровную квартиру продал, чтобы стены эти поднять. Когда мама болела, мы ее на руках носили, кормили с ложечки, ночи у кровати дежурили. А ты где была? В шелковых простынях своего Жорика валялась?
– Но я же не знала, что все так серьезно! – закричала Кира в ответ, и в ее крике была уже не только злость, но и отчаяние.
– А могла бы знать, если бы оставила адрес. Хоть на клочке бумаги.
Ссора затянулась до вечера. Слова становились все острее, обиднее, раня глубже. В итоге Кира, схватив свой чемодан, уехала в единственную городскую гостиницу «Рассвет». На прощание она бросила, что будет судиться. Вероника, закрыв дверь, долго стояла, прислонившись лбом к прохладному дереву, и думала о том, зачем она вообще приехала. Не за ответом, не за прощением. Лишь за долей.
И Кира действительно подала в суд. На первое заседание Вероника не попала – в тот самый день на свет, с тихим плачем, появилась Иришка. Леонид пошел один, мрачный и собранный. Дело оказалось небыстрым. На второе заседание Вероника явилась уже с папкой документов. Она спокойно, четко, как у доски, объяснила судье, что завещание мать писала в полном здравии, без какого-либо давления. Были представлены справки, заключения врачей. Леонид предъявил целую кипу чеков – на строительные материалы, на мебель, на дорогие лекарства, которые чудом сохранил за все эти годы. И, как последний, сокрушительный аргумент, – все те самые телеграммы от Киры. Сухие, лаконичные, безличные. Они лежали на столе судьи, словно обвиняя саму отправительницу.
– В иске… отказать, – прозвучал четкий удар молоточка.
И тогда в Кире что-то сорвалось. С криком, в котором смешались ярость, обида и бессилие, она бросилась на сестру. Леонид успел встать между ними, приняв на себя этот порыв отчаяния.
– Вы все у меня отняли! Вы! – рыдала Кира, пытаясь вырваться из его крепких рук. – Ладно он, чужой! Но ты… ты же родная! Как ты могла? Как?!
– Это была воля матери, – холодно, отстраненно ответила Вероника, чувствуя, как внутри все сжимается в тугой, болезненный комок. – Ее решение.
– Я проклинаю тебя! Слышишь! Проклинаю! – голос Киры стал хриплым, пророческим. – Я со свету тебя сживу! Покой тебе будет только в гробу! Ненавижу!
Эти слова повисли в выкрашенной масляной краской комнате суда и поселились в душе Вероники черной, холодной тенью.
После суда мир вокруг будто померк. Вероника долго не могла прийти в себя. На нервной почве у нее пропало молоко, маленькая Ира, чувствуя материнскую тревогу, день и ночь плакала на руках у Леонида. А потом… Потом началось то, во что Вероника никогда бы не поверила, будь ей рассказано со стороны. Она, учительница биологии, человек науки, поверила в древнюю, темную силу произнесенных в гневе слов. Поверила в проклятие.
Когда Ирине исполнился год, Вероника впервые почувствовала странное, изматывающее недомогание. Не болезнь, нет. Словно внутри нее что-то медленно, методично высасывало все соки. Ломота во всем теле, мигрени, сжимающие виски стальными обручами, приступы раздражительности, после которых она сама себя не узнавала. Врачи, к которым они обращались раз за разом, только разводили руками. Анализы – в норме. УЗИ, кардиограммы, томография – все показывало здоровый, крепкий организм. «Синдром хронической усталости, – говорили одни. – Послеродовая депрессия, затянувшаяся, – предполагали другие. – Нужно отдыхать, сменить обстановку».
Но как отдыхать, когда внутри тебя поселился тихий, неумолимый разрушитель? Вероника сомневалась в компетентности всех светил медицины. Не может здоровый человек чувствовать такую боль! Это не норма!
Подруги, видя ее страдания, шепотом советовали обращаться «к высшим силам». Ходить в храм, причащаться, исповедоваться, ставить свечи. Вероника, отчаявшись, пошла. И странное дело – в тишине церковных стен, под сенью древних икон, под протяжное пение хора ей действительно становилось легче. Боль отступала, в душе воцарялось краткое, хрупкое затишье. Но ночами монстр возвращался. Она просыпалась от того, что череп вот-вот треснет от боли, или от ощущения, будто кости выкручивают из суставов. Леонид, бессильный, смотрел на ее мучения, растирал ей спину мазями, варил успокоительные травы, но облегчение было мимолетным.
Два года она терпела. А потом, потеряв веру в официальную медицину, начала свой крестный путь по «бабкам». Она, некогда преподававшая теорию Дарвина, теперь сидела в душных избах на окраинах, слушала шепот старух над заговоренной водой, пила горькие отвары из непонятных трав, носила на шее мешочки с солью и угольками. Все было тщетно.
И вот однажды Людмила Семеновна, бывшая коллега, учительница математики, человек суховатый и скептичный, отвела Веронику в сторонку после родительского собрания.
– Верочка, слушай, – заговорила она, оглядываясь. – Я вижу, как ты мучаешься. Нехорошо это. Знаю я одну старушку… В глухой деревне, за пятьдесят верст. Говорят, у нее дар. Не всякому помогает, но… Может, попробуешь? Я тебя свезу, если захочешь.
Леонид остался с Ирой, а две женщины отправились в путь на стареньком «запорожце» Людмилы Семеновны. Дорога была долгой и ухабистой, ведущей все дальше от цивилизации в царство спящих полей и дремучих лесов.
Старушка жила в покосившейся, но удивительно опрятной избе на самом краю села. Ее звали Василиса Мироновна. Войдя в горницу, Вероника почувствовала странный покой. Пахло сушеными травами, печеным хлебом и временем. Василиса Мироновна, маленькая, вся в морщинках, но с невероятно живыми, пронзительными глазами, долго смотрела на Веронику молча, а потом тихо вздохнула.
– Эх, детка… Беда-то какая на тебя присела. Черная дымка. Чужая злоба, черная-пречерная, точит тебя изнутри, как червь яблоко.
– Но я… я никому зла не желала, – прошептала Вероника, но в ту же секунду перед ее внутренним взором всплыло искаженное ненавистью лицо сестры. Нет, она и Кире не желала зла. Только справедливости.
– А я и не про тебя говорю, – покачала головой старушка. – Кто-то порчу на тебя навел. Сильную. Смертную, можно сказать.
Ледяной комок сжался под сердцем у Вероники.
– Можно… снять?
– Можно. Да не просто. Порча-то на смерть сделана. Снять ее может только близкий человек. Теперь твоя жизнь – в его руках. Вот что делать. Мужу своему ни слова не говори. Попроси его выкопать во дворе две ямы. Глубокие, по пояс. Одна яма – это жизнь. Другая – смерть. Ты их в уме своем назови, представь, но видеть не должна. Потом обмойся вот этим отваром, – она протянула Веронике маленький, темный пузырек. – Мойся над тазом. А воду, что останется, пусть муж выльет в одну из ям. В какую – решать ему. Та яма, что примет воду, твою судьбу и решит. Жить тебе или к праотцам отойти. От мужа твоего теперь все зависит. Но! Знать он ничего не должен. Ни слова. Иначе сила обряда уйдет в песок. И еще помни: если выберет он яму «жизнь» – порча от тебя отстанет. Но не исчезнет. Она вернется к тому, кто ее навел. Выбирай.
Дорога домой была молчаливой. Вероника сжимала в кармане пузырек, словно последнюю надежду. Мысли путались. Если Леонид спасет ее… то страдать начнет Кира. Жаль. Но это плата. Суровая, но справедливая плата за содеянное. У нее есть Ира. Есть ради кого бороться. И за все в этой жизни, как говорила мать, надо платить. Своим здоровьем платить за чужую ненависть она больше не хотела.
Вечером, когда Леонид вернулся со стройки, она, стараясь говорить как можно естественнее, попросила:
– Олежка, выкопай, пожалуйста, две ямы в конце участка. Вдоль забора.
– Зачем? – удивился он, снимая запыленные ботинки.
– Хочу компостную кучу правильно сделать. Говорят, перегной – лучшее удобрение. А то все очистки в мусор – расточительно.
– Ну, одну-то понятно. А вторую зачем?
– Пусть будет две. На разные отходы. Что, тяжело? – она попыталась улыбнуться.
Леонид посмотрел на нее внимательно, вздохнул, но спорить не стал.
– Ладно. В середине межи выкопаю, там место свободное.
Вера решила про себя: если стоять лицом к забору, то слева – жизнь, справа – смерть.
Он копал долго, основательно. Земля поддавалась с трудом. Вероника, стоя у окна, следила за его согнутой спиной и молилась без слов, без обращений, просто вкладывая в этот немой крик всю свою отчаянную надежду.
Когда ямы были готовы, она нагрела воды, налила в корыто, добавила туда содержимое пузырька – темную, пахнущую полынью и чем-то еще жидкость – и стала обмываться. В доме было тихо. Ира спала.
Леонид, услышав плеск, заглянул в комнату.
– Верка, ты чего? У нас же ванна есть! – удивился он.
– В ванне светлые вещи Ирочкины замочила, отстирать надо, – солгала она, краснея от неправды. – Не хотела мешать. Ты уж вынеси, пожалуйста, воду-то.
– Да без проблем, – он легко поднял корыто. – Куда вылить-то?
– В одну из ям. Пусть земля влагу напитает. Завтра туда очистки сложу.
– Ясно, – кивнул он и вышел.
Минуты, что он отсутствовал, показались Веронике вечностью. Она сидела, обхватив колени, и боялась дышать. Сердце стучало где-то в горле.
Наконец он вернулся, поставив пустое корыто в сенях.
– Готово.
– Олежка… а в какую именно вылил? – голос ее звучал чужим, надтреснутым шепотом.
– Да в ту, что справа, – ответил он, вытирая руки.
Вероника прижала к себе спящую дочь, прижала так сильно, что та заворочалась во сне, и тихие, горькие слезы покатились по ее лицу. Значит, так. Судьба. Роковая яма.
– О чем ты? – Леонид подошел, присел рядом, обнял ее за плечи. – Почему плачешь?
– Ничего… Когда умру… ты нашу девочку воспитай хорошим человеком, ладно? – выдохнула она.
– Что за вздор? Какая смерть? Мы тебя вылечим! Обязательно! – в его голосе прозвучала несвойственная ему дрожь.
– Я знаю… Я это чувствую…
Всю ночь она пролежала с открытыми глазами, слушая ровное дыхание мужа и дочери. Прощаясь с этим миром мысленно, с каждой знакомой трещинкой на потолке, с шумом ветра за окном.
На рассвете, когда в доме еще все спали, она накинула халат и вышла во двор. Туман стлался по земле, окутывая все серебристой дымкой. Она медленно подошла к тому месту, где вчера копал Леонид. И замерла в недоумении. Ямы были выкопаны не вдоль забора, как она просила, а поперек участка, посередине широкой межи. И если подойти к ним с одной стороны, то правая яма оказывалась… левой. И наоборот. Как понять? Какая из них приняла воду? Отчаянно оглядываясь, она заметила у края одной из ям тонкий, хрупкий росток дикого винограда, пробивающийся из земли. Вот почему он не стал копать вдоль забора – тут лоза старая пустила корни. Что же… время покажет.
Она повернулась и пошла к грядкам с клубникой. Меж зеленых кустиков пробивались сорняки. Вероника присела на корточки и механически стала их выдергивать, чувствуя под пальцами прохладную, влажную землю.
– Верка! Ты чего так рано? – окликнул ее Леонид, вышедший на крыльцо.
– Проснулась… Воздухом подышать вышла. Сорняки вот…
– Иди-ка лучше, завтракать будем. Чего хочешь?
– Сырников бы… Пойду к тете Маше, творогу куплю, – она поднялась, отряхнула руки и пошла к дому, поймав на себе его удивленный, пристальный взгляд.
Купив творог, она вернулась и с каким-то забытым за долгие месяцы рвением принялась стряпать. Тесто замешивала, жарила на сковороде румяные, аппетитные лепешечки. Потом оглядела кухню – пыльно, окна запотевшие. Проводив Леонида на работу и отведя Иру в садик, она закатала рукава и устроила генеральное сражение с беспорядком. Мыла окна, вытирала пыль с самых верхних полок, драила плиту.
Леонид, вернувшийся в обед за забытым инструментом, застыл на пороге.
– Ты… что это с тобой? – спросил он, не скрывая изумления. – Как самочувствие?
– Хорошо. Силы будто вернулись, – улыбнулась она ему, и улыбка эта была первой по-настоящему легкой за последние годы. – Решила прибраться.
– Давно я тебя такой не видел… – он подошел, осторожно обнял ее. – Рад. Значит, та бабка помогла?
– Не знаю… Сама не пойму, откуда энергия, – честно призналась она.
Но дни шли, а упадок сил не возвращался. Напротив, с каждым днем она чувствовала себя бодрее. Ломота в теле отступала, головные боли становились реже и слабее, пока не исчезли вовсе. Раздражение сменилось давно забытым душевным покоем. Через месяц, когда она уже вовсю занималась домом, огородом и снова подумывала вернуться в школу, она собрала корзину с гостинцами – домашнего варенья, яиц, пирогов – и снова отправилась к Василисе Мироновне.
Старушка встретила ее у калитки, будто ждала.
– Ну что, детка? Отгадал, значит, суженый-то твой?
– Кажется, да. Но я так и не поняла, как, – и Вероника рассказала про ямы и свою путаницу.
– Сердцем он выбрал, – кивнула Василиса Мироновна. – Сердце ему подсказало. А правая та яма вышла на восток, на восход, на жизнь. Спас тебя муженек. Значит, любовь его сильнее злобы чужой. Это и есть твоя судьба.
– А что… что будет с тем, кто это навел? – тихо спросила Вероника.
– То же, что и наворожил. Только вот снять обратно такую порчу – дело немыслимое. Ибо сеют зло те, у кого в душе пустота и счастья нет. А раз счастья нет – то и помощи ждать неоткуда. Круг замкнулся.
Эпилог
Прошло полгода. Осень снова закрутила золотым вихрем листву, и в один из таких дней на пороге их дома, очищенного и обновленного жизнью, снова появилась Кира. Но это была тень прежней Киры. Изможденная, с впалыми щеками, в поношенном, не по сезону легком пальто. Глаза горели лихорадочным блеском.
– Некуда больше идти, – хрипло сказала она, не прося, констатируя факт. – Две недели, может, проживу. Врачи разводят руками, говорят, болезнь неясной этиологии. Жорик выгнал. Идти некуда. Пусти переночевать.
Вероника, глядя на нее, понимала все. Слова бабки Василисы отдавались в сердце тяжелым, но ясным эхом. Она хотела было сказать правду, но удержалась. И отказать умирающему, пусть и такому, человеку не смогла. Чувство вины, острое и колючее, смешалось с жалостью.
Кира прожила в маленькой комнатке, бывшей когда-то ее детской, чуть больше месяца. Она почти не вставала с кровати, тихо стонала по ночам. А однажды, когда Вероника принесла ей чаю с медом, та слабым движением руки попросила ее сесть.
– Знаешь… мне жалко, что все так вышло, – прошептала Кира, и ее взгляд был устремлен куда-то в прошлое. – Я заболела, наверное, потому, что слишком много зла в мире желала. Особенно тебе. Хотела, чтоб тебе так же плохо было… А вышло – мне. Так мне и надо. Ничего я в жизни хорошего не сделала. Ни семьи, ни детей, ни дела… Хорошо хоть, что мое колдовство на тебе не сработало.
– Сработало, Кира, – тихо, но четко сказала Вероника. – Сработало. Просто его сняли. Потому что у меня есть любовь. А оно… оно к тебе вернулось. Бумерангом.
Кира долго молчала, глядя в потолок. Потом слабая, горькая улыбка тронула ее пересохшие губы.
– Правильно… Ты правильно сделала. У тебя есть дочка. Есть для кого жить… – она закрыла глаза, и по ее исхудалой щеке медленно скатилась единственная, бриллиантовая слеза. – За все в жизни надо платить… Похорони меня… рядом с мамой. Хоть так… рядом буду.
Вероника выполнила ее просьбу. А после, уже с Леонидом и подрастающей Ириной, стала ходить в храм. Ставила свечи не только за упокой матери, но и за сестру. Они с Леонидом обвенчались под тихие, возвышающие душу песнопения, и через год после этого таинства в их семье родилась вторая дочь – Варвара.
И по сей день они идут по жизни вместе, рука об руку, под сводами старого храма и под крышей того самого дома, который выстоял против воды, горя и человеческой злобы. Они воспитывают двух дочерей, уча их самому главному – что сила не в проклятиях, а в прощении; не в разделении, а в единении; и что даже из самых темных, казалось бы, безвыходных ям судьбы можно выбраться на свет, если рядом есть рука, готовая держать твою, и сердце, которое безошибочно находит дорогу к жизни.