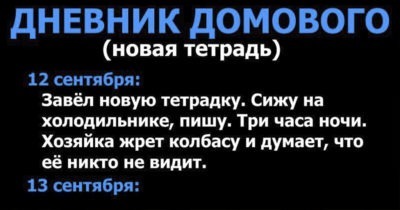Она ждала писем с фронта, а получила такое. . . История одной лжи, которая перевернула все с ног на голову. Сентябрь 1942-го

Золотисто-багряный сентябрь 1942-го укутывал землю Куйбышевской области прохладным покрывалом. Воздух, напоенный ароматом прелой листвы и дымком печных труб, был густ и прозрачен. В небольшом, но крепком доме на окраине села царила тихая, выстраданная гармония. Вероника, укачивая на руках своего годовалого сына Степана, медленно раскачивалась на скрипучем половике, а ее свекровь, Анна Викторовна, хлопотала у печи, где в чугунке побулькивали скромные, но такие желанные щи.
— Вот, родная, похлебка готова. Из молодой крапивы, я с утра по росе насобирала у забора. Дом нам, считай, повезло достать, пусть и небогатый, зато стены крепкие, и осенний ветер не гудит в щелях, словно голодный волк. А осень в этом году ранняя, дожди затяжные, так хоть над головой сухо… — голос ее был ровным и спокойным, как поверхность лесного озера.
— Спасибо, мама… И за это спасибо. — Голос Вероники дрогнул. — Иногда мне кажется, что той, прежней жизни и не было вовсе. Словно и не стояла наша светлая квартира в городе, и не было сквера с резными скамейками, и моего рабочего стола, заваленного бумагами, и того неповторимого запаха свежего хлеба из булочной на соседней улице… Все это уплыло куда-то в туман, стало сказкой, в которую верится с трудом. — Слезы, горячие и горькие, покатились по ее щекам, оставляя на платье влажные следы.
— Тихо, доченька, тихо, успокойся, — Анна Викторовна подошла и мягко обняла ее за плечи. — Верить надо, крепиться. Неужели зря наши мужья и отцы жизни свои кладут? Все вернется на круги своя, обязательно вернется, вот увидишь…
— А мои родители? А сестра Лидочка? — прошептала Вероника, всматриваясь в лицо свекрови, словно ища в нем ответы на незатихающие вопросы.
— Верон, боль утраты — это рана, которая заживает медленно. Но ты сумела вырваться из самого ада, сохранив самое дорогое — жизнь своего ребенка. Нет на свете ценности выше, чем дитя. — И тут уже глаза Анны Викторовны блеснули влагой, ведь двое ее сыновей были там, на передовой, плечом к плечу. — Когда мой старший, Леонид, женился на тебе и привел в наш дом, ты стала для меня той самой дочерью, о которой я всегда тихо мечтала. И я молилась, чтобы и младший, Глеб, нашел себе такую же умницу и красавицу. Грезила о том, как буду старушкой-бабушкой, окруженная внуками. Теперь же одна надежда — на скорейшее окончание этой войны и возвращение наших мужчин домой.
Вероника прижалась к плечу свекрови, ощущая исходящее от нее незыблемое тепло. Доброта и мужество этой женщины казались безграничными. В те страшные дни, когда небо родного города почернело от разрывов, а от родительского дома осталась лишь груда камней, именно Анна Викторовна, не растерявшись, затолкала в первую попавшуюся попутную машину немногие уцелевшие пожитки. Она отдала шоферу за поездку единственную ценность — серьги своей бабушки, доставшиеся ей еще с царских времен. Она почти силой усадила в кузов оцепеневшую, непонимающую невестку, прижала к груди внука и под мерный рокот мотора, смешанный с ее тихой, но горячей молитвой, они покидали горящий город, трясясь по разбитым дорогам в неизвестность. Три недели пути — и вот они здесь, в глухом селении, где нашлись и кров, и работа. Опытный врач Анна Викторовна, некогда руководившая больницей, теперь лечила местных жителей, а ее невестка, бывший бухгалтер, вела учет в сельсовете.
Когда острая душевная боль немного утихла, Вероника с изумлением осознала, скольким была обязана этой сильной женщине. Кто знает, какая участь ждала бы их, останься они в городе? И вот уже второй месяц тек их новый, непривычно тихий быт. Дом и впрямь был добротным; поговаривали, что прежде в нем жил местный председатель, скончавшийся полгода назад. Так что строение не успело еще ни осесть, ни пропитаться сыростью.
Две женщины, связанные одной бедой, налаживали свой скромный обитель и длинными вечерами писали письма своим солдатам — Анна Викторовна обоим сыновьям, а Вероника — своему любимому супругу Леониду. Они стали опорой друг для друга, ибо каждая несла в своем сердце тяжелый груз из боли, тоски и страха. В одиночку им было бы не выстоять. Они стали настолько близки, что многие односельчане, видя их вместе, не верили, что они свекровь и невестка, и звали Веронику не иначе как дочерью нашей докторши.
— Гладковы, почта вам! — раздался с улицы звонкий голос почтальонки, и обе женщины, как по команде, бросились к калитке. Они уже усвоили: если Нина Григорьевна приносила похоронки, она делала это молча, а значит, сегодня — долгожданная весточка. Конверт был от Глеба. Взяв его дрожащими пальцами, Вероника присела на скамью у дома и стала читать вслух, ибо зрение свекрови в последнее время сильно подвело.
«Здравствуйте, мои самые родные, мама, Вероника и племянник Степан. Радостных вестей у меня для вас, увы, нет, а скрывать случившееся я не в силах, рано или поздно правда всплыла бы. Вы спросите, отчего молчит мой брат Леонид. Его перевели в другую часть, и он с радостью согласился, ибо завел там сердечную дружбу с одной санитаркой по имени Евгения. Не хватило у него духу сказать правду жене и матери, потому он упросил меня написать вам это письмо. Я осуждаю его поступок, пытался вразумить, но он был непреклонен. Номер части сообщить не могу, он наказал не разглашать, лишь просил передать, что любит тебя, мама, и сам будет писать. Вот такие известия. Вероника, могу лишь догадываться, как тебе сейчас горько, но жизнь своенравна и порой преподносит такие сюрпризы. Держись рядом с мамой, будем надеяться, что Леонид одумается и вернется к семье. Я же жив и здоров, хотя приходится несладко. Больше новостей нет. Целую крепко, ваш Глеб».
— Мама, что это? Что он написал? — едва выдохнула Вероника, и слезы вновь затуманили ее взор.
— Доченька… Я сама не знаю, что и думать. Не верю, не могу поверить — как такое возможно? Леонид боготворил тебя…
— Но Глеб написал… А от Леонида ни строчки, они же всегда вкладывали письма друг для друга…
— Глебу нет резона обманывать. Верон, возможно, это мимолетное увлечение? Помрачение рассудка от ежедневного ужаса… Вот увидишь, все образуется, и он вернется к вам, к своему сыну…
— Да зачем он мне такой нужен?! Какая же это любовь, если он так легко увлекся первой попавшейся и даже не нашел сил сказать мне правду? Трус, жалкий трус! — Горечь и ярость переполнили Веронику, она вскочила и с размаху швырнула на землю деревянную миску.
— Вероника, успокойся, пойдем в дом, не давай на потеху соседским сплетницам, — мягко, но настойчиво увела ее Анна Викторовна.
Почти месяц Вероника металась между гневом, отчаянием и жалостью. То она проклинала мужа, то плакала в подушку, то прощала его воображаемые предательства, то клялась, что никогда больше не взглянет на него, даже если он вернется живым и невредимым. То вновь шептала, что не отдаст его никому.
И вот пришло новое письмо. Конверт был с размытым от влаги штемпелем, а имя отправителя значилось: Гладков Леонид Юрьевич. Но почерк был четким, каллиграфическим, явно женским.
«Здравствуйте, мама и Вероника. Сам писать не могу, пальцы не слушаются после ранения, потому помогает мне Женечка. Лежу в госпитале, но скоро выпишут, и мы отправимся дальше, под Сталинград. Виноват перед вами, но сердце мое принадлежит другой. Вероника, прости за причиненную боль, но я счел за лучшее быть честным, чем, вернувшись, таить в душе ложь и тосковать по настоящей любви. Когда одолеем врага, надеюсь, мне позволят иногда видеться с моим первенцем, сыном Степаном. Не пишите ответ, через неделю нас здесь не будет. Мама, буду присылать телеграммы, так вести будут доходить быстрее, связь здесь налажена. Люблю тебя, мама. А ты, Вероника, прости меня, пожалуйста, еще раз».
Вероника с криком разорвала листок, исписанный ровными строчками ее соперницы. Анна Викторовна молча смотрела на нее, понимая каждую эмоцию, бушующую в душе невестки.
— Если мой сын осмелится вернуться с ней, моим домом для нее он никогда не станет. Для меня есть только ты. А пусть строит свою жизнь отдельно.
Вероника не ответила, она лишь припала к ее плечу и зарыдала в голос. Если раньше у нее теплилась слабая надежда на ошибку, то теперь все встало на свои места, обретая черты жестокой и неоспоримой реальности.
1945 год.
— Глеб телеграмму прислал! — Анна Викторовна, сжимая в руке пожелтевший от времени листок, вбежала в дом, сияя от счастья. — Через три дня будет дома! Какая же это радость, Вероника!
— Правда? — Та выхватила телеграмму и принялась лихорадочно читать. — Надо же, готовиться надо, все село собрать, героя встречать!
— Что герой, то уж точно, — кивнула свекровь, ведь двумя месяцами ранее ее младший сын был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
— А Леонид… Ничего не пишет?
— Молчит. Как прислал две телеграммы подряд, что уезжает в Минск, на родину той самой Евгении, так с тех пор — ни звука, — Анна Викторовна развела руками. — Видно, стыдно сыну смотреть в глаза матери, вот и прячется. Три года одними сухими телеграммами меня баловал. И это при том, что всю войну прошел с Глебом плечо в плечо! Письма-то приходили с одних и тех же участков. Хоть бы строчку от себя вложил… Непонятный он стал.
— Я даже говорить о нем не хочу. Если он так поступил с вами, то что уж говорить обо мне и о сыне? Вот Степан подрастет, что я ему скажу?
— Что-нибудь придумаем. Самое страшное ведь позади. Дочка, я вот о чем подумала… Ты очень хочешь вернуться в Сталинград?
— Я бы осталась здесь. Я как-то привыкла за эти три года, подруги появились, Степан тоже с местными ребятами сдружился, вон, гляди, как они там гоняют в мяч. А Сталинград… Он будет будить слишком тяжелые воспоминания. О родителях, о сестре, о том, что когда-то мы с Леонидом были счастливы… Но если вы хотите…
— Ой, нет, что ты! — живо отмахнулась Анна Викторовна. — Я теперь ни за что не променяю эту деревню на город, лежащий в руинах. Воздух здесь, птицы, река, лес…
— Павел Петрович… — с легкой улыбкой протянула Вероника.
— Павел Петрович?! — свекровь сделала вид, что возмущена, но щеки ее залил предательский румянец. — Верка, ну что ты выдумываешь!
— Да чего уж там, не скромничайте, — рассмеялась Вероника. — Ваш ухажер, вон, не столько свою избушку латает, сколько к нашему забору прибивается. То цветы полевые принесет, то по хозяйству вызвается помочь, по-соседски, мол. — Она лукаво подмигнула и скрылась в доме.
У Анны Викторовны и впрямь появился поклонник, вдовец, сосед ихний. И сама она поглядывала на него с нескрываемым интересом. А почему бы и нет? Лет ей было всего пятьдесят пять, а выглядела она и того моложе.
Три дня пролетели в хлопотах и предпраздничной суете, и вот на пыльной проселочной дороге показалась знакомая, хоть и сильно постаревшая, мужская фигура. Узнав сына еще издалека, Анна Ивановна с криком бросилась ему навстречу, обливаясь слезами радости. Вероника же стояла у ворот, держа за руку подросшего Степана.
— Это мой папа? — тихо спросил мальчик.
— Нет, сынок, это твой дядя. Он очень смелый, он герой! И он тебя очень любит.
Глеб подошел к Веронике, крепко, по-родственному обнял ее и поцеловал в щеку, а потом с изумлением уставился на ребенка.
— Это… Неужели… Степан?
— Он самый, — улыбнулась Вероника.
— Вырос же ты как, сорванец! Ну-ка, давай к дяде на руки! — Он наклонился, подхватил мальчишку и подбросил его к самому небу, заливаясь счастливым смехом.
За скромным ужином, уплетая щи из кислой капусты и хлеб, в котором муки было меньше, чем лебеды и отрубей, он не мог нарадоваться.
— Как же давно я не ел твоих щей, мама…
— Ох, сынок, да здесь и половины тех продуктов нет, из которых я их раньше варила.
— Все равно, мама, все равно, ничего вкуснее на свете нет.
Она гладила его по стриженой затылку и не могла насмотреться, не веря своему счастью. О Леониде за столом не было сказано ни слова, и Вероника не спрашивала. Хотя с тех пор минуло три года, обида и горечь никуда не делись. Лишь поздно вечером, случайно подслушав разговор свекрови с Глебом, она услышала, как он повторял ту же версию, что изложил в письме. И что все эти годы они с братом служили вместе, но тому было стыдно писать, вот он и ограничивался безликими телеграммами.
Прошло два месяца. Подруги Вероники, Карина и Лидия, сидели напротив нее и многозначительно переглядывались.
— Ну, голубушки, говорите быстро, зачем пожаловали. Мне еще в сельсовете работать.
— Верка… А Глеб-то твой ни на кого из наших девок глаз не положил? — начала Карина.
— А что?
— Ну как что? Мужиков-то в селе по пальцам пересчитать, мы бабы вольные, хозяйство вести некому… А он два месяца как дома, а его ни с кем не видят. Мне позарез мужская рука в доме нужна, — Карина с силой хлопнула ладонью по столу. — Изба без хозяина разваливается.
— Думаешь, у меня по-другому? Отца нет, все самой приходится таскать. Мне тоже не помешало бы, — вторила ей Лидия.
— Ох уж вы, сплетницы мои дорогие, — Вероника покачала головой. — Нет у него никого, и вы не суйтесь.
— А с чего это такая забота? — хитро прищурилась Лидия.
— А с того, что не хватало мне, чтоб вы потом из-за мужчины поругались, а мне между вами метаться. Пусть сперва освоится, оглядится, сам решит, куда его сердце тянет…
— Верка, а случаем, ты его себе не приметила? — не унималась Карина. — Живете под одной крышей, чай, отношения могут быть не только как у свояченицы с деверем.
— Да ну вас совсем! Он мне как брат родной.
— Только глядит он на тебя не как брат, — вставила свое слово Лидия. — Помнишь, как агроном наш, Семен, на танцах тебя приглашал? Так твой Глеб ему потом ясно дал понять, чтобы держался от тебя подальше.
— Потому что Семен Михайлович — человек семейный…
— Думается, не только поэтому, — многозначительно качнула головой Карина. — Присмотрись к нему повнимательнее.
— Идите вы, — покраснела Вероника. — Марш отсюда, работы у меня полно.
Едва подруги удалились, Вероника задумалась. Они были правы, Глеб и впрямь стал смотреть на нее иначе. Недавно он даже сделал ей предложение, но она, смутившись, отказала. Однако он попросил ее просто подумать, не торопиться с ответом.
Вечером, вернувшись домой, она застала свекровь и Глеба за столом, они о чем-то тихо беседовали.
— Дочка, садись, сейчас покормлю, — засуетилась Анна Викторовна.
Вероника смотрела на них и понимала, что разговор предстоит серьезный. Отложив ложку, она обвела их взглядом и тихо сказала:
— Я вас слушаю.
— Я просил тебя подумать о нашем с тобой будущем. Вероника, я понял за эти месяцы, что люблю тебя, ты стала мне не просто родным человеком, — Глеб говорил взволнованно, теребя в руках краешек скатерти.
— Но я не люблю тебя… по-настоящему. Пока нет.
— Это пока. Пока я для тебя друг, почти брат… Но я ведь не чужой, и для Степана я не чужой…
— И правда, Вероника, — поддержала сына Анна Викторовна. — Ты не можешь всю жизнь одну быть. Женщине нужна опора, да и дети… Ты же всегда о большой, дружной семье мечтала. А Глеб тебя любит, вы знаете друг друга много лет. Да и я не хочу терять тебя, ты стала мне родной дочерью… А Степана он ни за что не обидит.
— Но мы с Леонидом все еще муж и жена…
— Это дело поправимое, — голос Глеба прозвучал увереннее. — У меня в городе есть человек, мы с ним в сорок третьем дружбу крепкую свели. Он после ранения сейчас на хорошей должности. Он поможет с разводом.
Они уговаривали ее, и сердце Вероники постепенно сдавалось. Она размышляла о том, что Глеб — человек надежный, добрый, и он ей нравился. А раз так, почему бы не дать ему шанс? Почему бы не попытаться обрести новое счастье?
Спустя два месяца развод был оформлен в одностороннем порядке, Глеб сумел все устроить. Расписались они тихо, в сельсовете. Время было слишком суровым для пышных торжеств, да и белое платье с фатой вызвали бы у нее лишь горькие воспоминания. Подруги, Карина и Лидия, добродушно подшучивали над ней, вспоминая тот давний разговор, но в душе были искренне рады за подругу, зная, через что ей пришлось пройти.
1950 год.
Вероника укачивала на руках трехмесячную дочурку Оленьку, а во дворе ее девятилетний сын Степан и муж Глеб дружно латали прохудившуюся крышу сарая. Она смотрела в окно и улыбалась, ощущая глубокое, спокойное счастье. Любовь к Глебу пришла постепенно, как он и предсказывал. Не простив до конца Леонида, она все же сумела открыть сердце для новой жизни. Тот так и не объявился, даже телеграммы перестали приходить. Анна Викторовна таила в душе обиду на старшего сына, но, помня его последнюю весточку от июня 1945-го, где он писал, что жив-здоров, понимала: он тоже выбрал свой путь. Хотя боль от его молчания никуда не уходила. Сама Анна Викторовна два года назад переехала к Павлу Петровичу и обрела в его лице надежного спутника на склоне лет.
Дочка уснула, Вероника бережно уложила ее в колыбельку и вышла во двор, неся кувшин с холодным квасом. И вдруг скрипнула калитка. Увидев вошедшего, она выронила глиняный сосуд из ослабевших рук. Это был он. Исхудавший, обросший щетиной, сильно поседевший, но она узнала бы его из тысячи.
— Здравствуй, Вероника. Я вернулся…
Она не могла вымолвить ни слова, лишь прислонилась к косяку двери, пытаясь перевести дыхание. Глеб спустился с крыши и твердой походкой подошел к жене, взяв ее за руку.
— Вижу, пока меня не было, в семье моей произошли перемены? — горько усмехнулся Леонид.
— Зачем ты вернулся? Ступай к своей Евгении, в Минск, или откуда она там родом? — с трудом выдавила Вероника.
— Что ты ей наговорил? — Леонид рванулся к брату, но Глеб грубо оттолкнул его.
— То, что должен был сказать!
— Не было у меня никакой Евгении! — Леонид шагнул к Веронике, но та отпрянула. — В плену я был до сорок четвертого, а потом… потом меня осудили. Шесть лет ушло на то, чтобы доказать, что я не предатель… А ты, братец, я смотрю, не терял времени даром. Как же так, Вероника, тебе было все равно, где я и что со мной? Ладно, у меня не было возможности писать, но ты, Глеб, как ты мог так подло поступить? — Он тяжело опустился на завалинку и закрыл лицо руками.
Вероника смотрела то на одного, то на другого, и вдруг в ее сознании, словно вспышка, возникла страшная догадка: Глеб солгал им всем, чтобы жениться на ней. Резко развернувшись, она вошла в дом и, захлопнув дверь, заперла ее на щеколду. Глеб стучал в дверь, умоляя открыть, но она не хотела его видеть. Вспомнив слова Леонида о плене и тюрьме, она почувствовала острую жалость к бывшему мужу и корила себя за то, что ее сердце не почувствовало его беды, что поддалась она на уговоры Глеба… Но письмо, тот самый ровный женский почерк? Телеграммы? Как это объяснить? Кто же из них говорит правду?
Она выглянула в окошко и, не увидев во дворе никого, кликнула Степана, взяла на руки спящую Оленьку и, прихватив детей, ушла к Карине.
Когда пришел Глеб, подруга не пустила его на порог, и Вероника не вышла. Леонид тоже приходил, но и с ним она говорить не стала. Ей нужно было время, чтобы остыть, собраться с мыслями и во всем разобраться. Необходимо было докопаться до истины. Вдруг Леонид и впрямь жил с той женщиной, а теперь врет, чтобы вернуть все назад? А если солгал Глеб? Боже, назад ведь пути нет, она — его жена, она родила ему дочь…
Под утро она все же вышла к Леониду. Он все так же сидел на скамье, сгорбившись.
— Расскажи мне все, — тихо сказала она, садясь рядом. — Я с ума сойду, не понимая, как это случилось. Если ты говоришь правду, то откуда то письмо из госпиталя и телеграммы?
— Это все Глеб. Письмо медсестра под его диктовку писала, а телеграммы он сам слал, чтобы почерк не выдать…
— Но как… как все вышло?
— Меня взяли в том самом полуразрушенном доме… Нас было трое, они нагрянули внезапно. Не буду рассказывать, через что мне пришлось пройти… В сорок четвертом наш лагерь освободили, и почти всех отправили на фильтрацию, меня в том числе. Не виню никого, время было такое, и дезертиры были, и предатели… Всех проверяли. Шесть лет я провел за колючей проволокой, и вот я на воле. Прихожу — а моя жена и не жена вовсе, а за братом замужем, и дочка у них… А мне куда идти? Где мой дом?
Вероника молчала, пытаясь осмыслить услышанное, и вдруг он повернул к ней свое изможденное лицо:
— Вероника, я мог бы тебя понять, мы могли бы все начать заново. Согласишься ли ты? Уйдешь ли от него? В конце концов, ты тоже стала жертвой обмана.
Она заплакала. Она запуталась окончательно, но самое ужасное было в том, что она больше не любила Леонида и чувствовала себя предательницей по отношению к Глебу.
— Ты здесь? — раздался сзади знакомый голос, и они оба обернулись. Глеб стоял в нескольких шагах. — Ну конечно, где же тебе еще быть. Все уже рассказал?
— Да, рассказал. Глеб, как ты мог? Ты лгал нам с матерью все эти годы!
— А знаешь, зачем я лгал? Потому что не хотел видеть ваших ежедневных слез и терзаний. Вы бы сходили с ума от беспокойства, думая о нем, а если бы он не выжил? Я решил, что будет легче, если вы подумаете, будто он жив, но с другой, чем годами оплакивать его или представлять, что с ним творят в плену…
— Но это же предательство! Пока он там боролся за жизнь…
— А ты не рассказал ей, как именно ты там оказался? — Глеб горько усмехнулся.
— Замолчи! Не в этом дело!
— А я не стану молчать. Вероника, его схватили тогда, когда он в развалинах миловался с той самой санитаркой Женей, с которой у него уже несколько месяцев был роман. Так ведь, брат? И ребенка она от тебя ждала. Вас вместе и взяли. Женя не стерпела издевательств, погибла почти сразу, мы потом ее тела даже не нашли. Если бы не твоя глупость и самонадеянность, не сидеть бы тебе в том подвале. Я же тебя предупреждал — будь осторожней.
— Леонид, это правда? — тихо спросила Вероника.
— Нет! — Но по его потухшему взгляду, по дрогнувшим губам она все поняла. Он никогда не умел лгать.
— Значит, пока я здесь писала тебе письма о своей любви и верности, ты в это время завел другую семью.
— Не просто завел, он влюбился по-настоящему, — безжалостно продолжал Глеб. — Разве не строили вы планы, как после войны он разведется с Вероникой, и вы уедете в Минск? Я как сейчас слышу ваш шепот в окопе.
— Леонид… это правда? — Голос Вероники дрогнул от непереносимой боли. Леонид молчал, опустив голову.
— Значит, ты вернулся ко мне лишь потому, что ее больше нет. Будь она жива, ты бы и не подумал о нас… — сказала она, и в ее словах не было уже ни злобы, лишь бесконечная усталость.
— Вероника, это все в прошлом, сейчас-то я здесь, с тобой. Мы можем все вернуть, я буду растить твою дочку, удочерю ее…
— Не смей даже подходить к моей дочери! — Глеб ринулся на брата, и между ними завязалась жестокая, молчаливая драка. Вероника с криком бросилась их разнимать, а потом, вырвавшись, снова убежала в дом Карины.
Вечером пришла Анна Викторовна.
— Вероника, прости его. У вас семья, дети… Надо думать о будущем.
— С Глебом у нас тоже семья и ребенок.
— Так я тебе про Глеба и говорю. Знаешь, я долго сидела и думала… А ведь он, возможно, был прав. Его ложь спасла нас от ежедневного кошмара и рек слез. Подумай сама — мы бы восемь лет проливали над его фотографией слезы, а я, старая, могла и не выдержать… А так я просто злилась и обижалась, но я знала — он жив. И ты… Разве ты не была счастлива с Глебом все эти годы?
— Была… А теперь не знаю, что думать, мама…
— Жить, дочка. Просто жить дальше. Возвращайся с детьми домой, к мужу. Как бы я ни радовалась возвращению сына, но в своей беде виноват он сам. Ты ведь любишь Глеба…
— Люблю…
— Тогда пойдем домой. — Анна Викторовна вошла в дом и бережно подняла с кровати спящую внучку, а Вероника, глядя на нее, словно перенеслась на восемь лет назад, в тот далекий и страшный сентябрь, когда именно эта мудрая женщина взяла на себя тяжесть решений и спасла их всех.
Эпилог
Леонид какое-то время пожил у матери, а спустя несколько месяцев перебрался к Карине, которая, видя его смятение и одиночество, сама проявила инициативу и предложила свою помощь и поддержку. А год спустя, когда Карина родила ему сына, Леонид как-то раз сидел со Вероникой в саду, глядя, как их дети играют вместе.
— А знаешь, я, кажется, начинаю понимать, что все сложилось так, как должно было сложиться. Карина — удивительная женщина. И мне кажется, я по-настоящему счастлив с ней.
— Может, тогда и с братом пора мириться? — мягко спросила Вероника.
— А почему бы и нет? — он улыбнулся, и в его глазах впервые за долгое время появился мир. — И повод у нас теперь есть по-настоящему собраться всей нашей большой, хоть и неожиданно сложившейся, семьей.
И в саду, где звенели детские голоса, переплетаясь с шелестом листвы, царил мир — хрупкий, выстраданный и бесконечно дорогой, как тихая песня о милосердии, прощении и той мудрой силе жизни, что способна врастить даже самые горькие уроки прошлого в узор нового счастья.